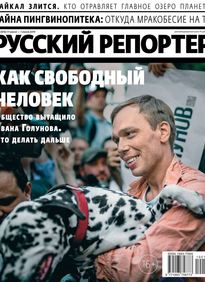ТОП 10 лучших статей российской прессы за June 17, 2019
Заводной мандарин
Автор: Константин Саломатин , Шура Буртин. Русский Репортер
Уже полтора года из Синьцзяна — региона Китая, населенного уйгурами и казахами, — идут слухи, напоминающие роман Оруэлла «1984». Тотальная слежка, концлагеря, в которых содержится более миллиона человек, территория размером с три Франции, превращенная в тюрьму под открытым небом. Корреспондент «РР» поехал в Алма-Ату, чтобы поговорить с казахскими беженцами и русским ученым, открывшим миру синьцзянскую трагедию
АДЕМ ЙОК
В 1915 году молодой немецкий офицер Армин Вегнер стал свидетелем чудовищных сцен уничтожения мирного армянского населения. Он видел концлагеря в пустыне, заполненные сотнями тысяч женщин и детей, умиравших от голода и жажды под охраной турецких солдат. Вегнера арестовали и отослали в Германию. Однако под ремнем он смог провезти негативы. Вернувшись, Вегнер стал рассылать везде снимки и кричать о катастрофе. Но кто мог поверить, что правительство просто так убивает миллион собственных граждан?
В 1942 году польский партизан Ян Карский, переодевшись немецким солдатом, проник в Варшавское гетто и концлагерь «Белжц». Затем Армия Крайова переправила его в Лондон с докладом и микрофильмом для правительств Великобритании и США. Но ему никто не верил, даже евреи — потому что в это невозможно было поверить. В Америке Карский был принят президентом Рузвельтом. После доклада тот спросил: «А как сейчас в Польше с лошадьми?»
В сентябре 2017 года молодой лингвист Евгений Бунин вернулся из внутреннего Китая домой, в Синьцзян, чтобы продолжить работу над книгой по уйгурскому языку. Первое, что он увидел, — как много закрытых лавок и магазинов, везде пустые пятна. Улицы патрулируют полицейские фургоны с сиренами, везде колючая проволока — на школах, детских садах, больницах, заправках. Город перегорожен, каждые триста метров блок-пост — бетонная будка, проволока, куча полиции, военных и везде — длиннющие очереди из уйгуров. У них проверяют все: удостоверения, сумки, телефоны. Чтобы просто зайти на рынок, надо пройти металлодетектор и два чекпойнта.
— Китайцы и иностранцы спокойно шли без проверки, это выглядело дико, — говорит Бунин. У уйгуров и казахов конфисковали паспорта, людей заставили вернуться по месту прописки. Многим запретили покидать свои районы.
— Люди стали исчезать, куда — никто не знает. Может, его просто отправили в родную деревню, а может, в концлагерь. Идя по городу, я то и дело видел закрытую знакомую лавку. Когда я спрашивал, куда исчез человек, соседи или боялись, не отвечали ничего, или говорили просто «йок» (нету). «Этот человек йок, ты понимаешь, что я имею в виду? — сказал мне один приятель про другого. — У него теперь другой дом».
Иногда говорили: «Он поехал учиться» — это стало устойчивым эвфемизмом. Повар в одном одного кафе сказал Жене, что в деревнях Южного Синьцзяна почти никого не осталось: «адем йок».
«ЛЮДИ СТАЛИ ИСЧЕЗАТЬ, КУДА — НИКТО НЕ ЗНАЕТ. МОЖЕТ, ЕГО ПРОСТО ОТПРАВИЛИ В РОДНУЮ ДЕРЕВНЮ, А МОЖЕТ, В КОНЦЛАГЕРЬ. ИДЯ ПО ГОРОДУ, Я ТО И ДЕЛО ВИДЕЛ ЗАКРЫТУЮ ЗНАКОМУЮ ЛАВКУ. КОГДА Я СПРАШИВАЛ, КУДА ИСЧЕЗ ЧЕЛОВЕК, СОСЕДИ ИЛИ БОЯЛИСЬ, НЕ ОТВЕЧАЛИ НИЧЕГО, ИЛИ ГОВОРИЛИ ПРОСТО “ЙОК” (НЕТУ)»
АТАЖЮРТ
Алма-Ата — прикольный город, советская архитектура периода брутализма-модернизма. Из всей Центральной Азии — самый европейский, основной язык — русский, без акцента. Люди — средний класс, при этом очень открытые, отзывчивые. Я сломал клипсу от микрофона, нашел в ЦУМе, карточки у них не работают. Нашел у себя в кармане пятьсот тенге. Стоит пара казахов, парень с девушкой: «Да вот, возьмите еще триста тенге». Это сумма небольшая, но все равно.
Мы сразу едем в офис «Атажюрта» — организации, которая помогает беженцам из Синьцзяна. Думали, что только познакомимся с Серикжаном Биляшем и поедем в гостиницу отдохнуть от перелета, но оказывается, что нас ждут. Две комнаты битком набиты людьми. На стенах — сотни фотографий их родственников, пропавших в лагерях. Все приехали специально, многие — из сел и других городов, только чтобы дать нам интервью. Полсотни людей. Я чувствую, что нас взяли в заложники и не отпустят, пока мы со всеми не поговорим.
Мы говорим, и говорим, и говорим — до глубокой ночи. Мы давно уже перестали что-то понимать, надеемся только на камеры, просто записываем имена, поддакиваем и киваем. Лица слились в серую массу. Все, что они рассказывают, совершенно не клеится с их внешностью. Большинство — такие крестьяне-крестьяне, в политике безопасные и бесполезные. Последние, кого придет в голову репрессировать. Но мы раз за разом слышим:
— Меня приковали к столу в неудобной позе и допрашивали два дня. В какой-то момент я все-таки отключился и заснул. Просыпаюсь от азана (Мусульманский призыв на молитву. — «РР») — полицейские включили на телефоне. Я вздрогнул — они смеются. «Мусульманин...» — и отправили меня в лагерь как ваххабита.
— Сразу посадили в подвал. Там маленькая камера поделена на восемь клеток. В клетке — маленькая табуретка, над головой — фонарь. Сидишь, раз в день вызывают на допрос. Я там так восемь дней сидел.
— После трех месяцев я не выдержал и с разбегу ударился головой о стену, я хотел себя убить. Я потерял сознание. Когда очнулся, мне сказали: «Сделаешь это еще раз — будешь сидеть семь лет».
— Каждую ночь я слышал, как кто-то в камере плачет.
— Если кто по привычке скажет: «Салам алейкум!» или «Альхамдулиллях!» («Слава Богу!» — «РР»), его наказывают — бьют электрошокерами, заковывают, лишают еды на сутки и так далее.
«Атажюрт» возник еще до репрессий. Они призывали казахов переезжать в Казахстан, помогали им покупать там землю. Успели вытащить шестьдесят семей до того, как граница закрылась. Хотя это не какая-то серьезная правозащитная организация с сотрудниками, а скорее волонтерская группа. Но они очень много сделали, смогли собрать людей, представить западным журналистам.
Видно, что все тут завязано на Серикжана Биляша, их харизматичного лидера. Он прикольный, энергичный, с утра до ночи и даже ночью с кем-то встречается. Он собирал большие деньги, тысячи долларов, перераспределял среди беженцев — кому-то на лекарства, кому-то на еду, кому-то за квартиру платить. Сейчас этот поток остановился — казахские бизнесмены боятся жертвовать.
Его жена — молодая девушка, местная, в обтягивающих джинсах и в хиджабе. Мы все две недели общаемся с ней по-английски, пока она не понимает, что я русский.
— Ваш родной — русский? Ой, и мой тоже.
Сам Серикжан совершенно светский, не делает намаз. Говорит: «Не надо писать, что мы мусульмане. Мы обычные люди. Нас прессуют за то, что мы казахи».
Тюрем и лагерей в Синьцзяне сотни, в каждой — какая-то своя специфика. Где-то провинившихся на сутки заковывали в «тигриный стул», где-то сажали в клетку, где можно только сидеть, где-то приковывали к полу в неудобной позе, где-то топили в ванне с водой, где-то привязывали к стене за руки так, что стоять приходилось только на носках, или совсем подвешивали на дыбе — бесчисленное множество вариантов. Но все-таки это система, построенная по общему плану.
— Мы выходили по очереди перед классом и кричали: «Я думал неправильно! Я не понимал опасность религии! Я не понимал, что казахи — отсталый народ! Я не понимал, что Коммунистическая партия освободила нас! Я нарушал китайский закон! Теперь я понимаю! Я благодарен Коммунистической партии!» Потом надо было критиковать друг друга.
— Я виновата, что не понимала опасность религии! Я виновата, что носила хиджаб! Я виновата, что молилась! Я виновата, что читала Коран! Я виновата, что дала своим детям мусульманские имена! Я благодарна Коммунистической партии, что она меня учит!
— Перед едой мы кричали: «Спасибо партии! Спасибо Родине! Спасибо Си Цзиньпину!»
— Мы должны кричать: «Мы в неоплатном долгу перед государством и партией!»
— По тысяче раз кричали: «Мы против экстремизма! Мы против сепаратизма! Мы против терроризма!»
— Ты соблюдаешь китайский закон или шариат?
— Китайский закон!
— Ты понимаешь, что религия опасна?
— Я понимаю, что религия опасна!
Наутро мы отбираем тех, с кем хотим поговорить подробнее.
ЫРГАДЫ
Ыргады, маленький мужчина из Талдыкургана лет пятидесяти на вид, очевидно, надел на интервью свой лучший костюм. Нелепый праздничный пиджак с каким-то подвесочками, как на свадьбу, разноцветная рубашка с длинным воротом, туфли с носами. Я делаю его портрет и понимаю, что вообще не могу его использовать. Он выглядит, как драг-диллер из мексиканского сериала. Ыргады оказывается единственным среди моих собеседников верующим мусульманином — молится по часам, ходит по пятницам в мечеть. В основном они ни фига не религиозны, и Серикжан Биляш справедливо возмущается: «Зачем вы пишете “мусульмане”? Мы обычные современные люди, нас преследуют за национальность».
— Я работал челноком — покупал в Китае вещи и перепродавал их у нас на рынке. В ноябре 2017-го я отправился в Хоргос, как обычно, — и сразу же на границе был арестован. За посещение Казахстана — он в списке стран, запрещенных для посещения жителями Синьцзяня. Хотя я давно уже жил в Казахстане. Меня допрашивали всю ночь, били железной палкой. В моем телефоне они кучу всего запрещенного нашли — и WhatsApp, и фотку жены в хиджабе, и заход на сайт «Радио Азатлык» (Казахская служба «Радио Свобода». — «РР»). Оказалось, за любую из этих вещей в Китае сажают.
Две недели меня держали в кандалах. Неважно, что мы делали: спали, шли куда-то, сидели, — мы всегда были в кандалах, всю неделю. Если в чем-то провинишься — цепи укорачивают. Но мне-то повезло, а там был человек, который уже год в кандалах сидел. Два раза в сутки мне надевали на голову черный мешок и вели на допрос: «Чем занимаешься? Зачем приехал?» Кормили нас раз в день — одно маньтоу (Кусок рисового теста на пару, что-то вроде манта без мяса. — «РР») и бутылка воды. Все, о чем я мечтал, — это еще одно маньтоу. Они морили нас голодом, чтобы мы в чем-нибудь сознались. Через две недели нас отправили в лагерь. Перед лагерем они сделали мне инъекцию в правое плечо, якобы прививку, она до сих пор болит.
В нашем лагере было десять тысяч человек. В одном только районе Хоргаза три таких лагеря. Лагерь разделен на четыре зоны, я был в самой строгой — она была для верующих, там сидели «религиозные экстремисты». У многих срок был десять лет, а у кого-то даже тридцать. Они не знали, что раньше я был имамом, если бы знали, никогда бы не выпустили — так бы и сгноили в тюрьме.
Камеры метров по десять, очень узкие. В каждой — 18 человек, на одну койку приходится два человека. Спишь два часа, потом два часа «дежурство», сидишь на стуле, потом снова можно лечь. Днем мы сидели на пластмассовых стульях по 12-14 часов. Шевелиться можно только с разрешения надзирателя. Везде камеры. В туалет нас водили вместе, помочиться — две минуты, по-большому — три минуты. Если не успевал — поливали холодной водой или били шокерами. От побоев и пыток там много людей умирало. Китайцы их сразу хоронили и писали в документах, что человек умер от какой-то болезни.
— А вы там молились? — спрашиваю я бывшего муллу.
— Это было невозможно совершенно, в каждом углу по камере. В лагере были мусульмане, пытавшиеся тайно молиться пять раз в день. Но их ловили, били и судили. Каждую пятницу нас строили во дворе и показывали нам этих заключенных: «Кто будет молиться — десять лет!»
В сердце я, конечно, молился и плакал. Я никогда не верил, что Аллах оставил меня. Каждый вечер перед сном повторял: «Господи, пожалуйста, помоги мне выжить здесь. Пожалуйста, спаси казахов от Китая».
Когда меня отправили в лагерь, мой отец в Китае стал ходить по инстанциям, пытаясь мне помочь. За это его самого арестовали, он полгода просидел в тюрьме. Я мечтал хоть как-то связаться с родными в Казахстане. Чтобы они узнали, где я, и попытались что-то сделать. Я долго ничего не мог придумать, я был запуган. Но через полтора года мне это удалось: я оторвал от робы кусочек подкладки, написал на нем записку, свернул трубочкой. Один парень, который должен был выйти на волю, вшил ее в свою одежду. Потом он сфотографировал эту записку на телефон и переслал моей жене.
В декабре 2018 в лагерь приехало какое-то начальство. Меня вызвали и сказали, что меня освободят, так как в Казахстане осталась моя семья. Предупредили, чтобы я никому ничего не рассказывал. Потом я узнал, что моя жена за меня много шумела. Но когда я приехал в Хоргос и перешел границу, то вдруг понял, что забыл родной язык. Не мог вспомнить, как говорить по-казахски. Я вообще почти ничего не помнил — вот всего этого, что вам сейчас рассказываю. Сейчас память стала возвращаться, но до сих пор мало помню.
Я уточняю его имя, место жительства и возраст.
— Тридцать пять лет…
— Бек, спроси еще раз.
— Тридцать пять, — повторяет переводчик, изумленный не меньше моего.
Женя Бунин — 33-летний двухметровый блондин с удивленным лицом. Я сам длинный, а он еще выше меня и на две головы выше всех остальных. Наконец-то удобно снимать, не надо на полусогнутых ногах ходить. У него прекрасный английский и вообще хорошо объясняет, очень четко говорит, ничего лишнего. Он лингвист, свободно говорит по-китайски и по-уйгурски. Мы встречаемся в офисе «Атажюрта».
— Моего самого старого друга арестовали сразу, в начале 2017, — за то, что он когда-то жил в Дубае, занимался там бизнесом. Где тюрьмы и лагеря — никто не знает. Хотя в Кашгаре был один прямо в городе. Раньше там был какой-то институт — прозрачный заборчик, за ним главное здание и кампус. Но, приехав, я увидел, что вокруг огромный бетонный забор, большие железные ворота. И все понимали, что теперь там лагерь.
Бунин рассказывает, что все живут в ожидании ареста. Полиция может придти домой среди ночи, проверить телефон, компьютер, книги. Если найдут Коран, или цитату из него, или молитвенный коврик, или исламскую одежду — арестуют. Люди перестали разговаривать: не знаешь, кто может на тебя донести. Родители боятся своих детей. Дети ходят в школу, учителя их спрашивают: «Твои родители молятся?» Если скажут «да» — они могут исчезнуть.
Детей арестованных родным не отдают, забирают в детдома. По официальным данным, только в Кашгаре — семь тысяч за прошлый год. У человека умер отец, он произносит на похоронах поминальную молитву — его забирают, это обычное дело. Мечети везде сносят, даже самые древние. Осталось несколько центральных для туристов. Бороды запрещены. Как и мусульманские имена.
— Сначала запретили давать их новорожденным, — продолжает Женя, — но сейчас и взрослым опасно их носить. У меня есть друг, которого звали Кали-Хаджим. «Хаджим» значит, что человек совершил хадж (Паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей. — «РР»). Он его не совершал, просто родители так назвали. Но он пошел и изменил имя, говорит: «Пожалуйста, не зови меня так больше».
— Один мой друг, он уже пожилой, пенсионер, у него была маленькая книжная лавка в Кашгаре. Там было много книг на уйгурском, которые все в один момент вдруг стали запрещенными. Его арестовали, дали срок семь лет, а его сына отправили в лагерь. В другом магазине хозяйка выхватила у меня из рук книгу на уйгурском, наугад ткнула в то же самое слово «Хаджим» и прошептала: «Теперь людей сажают на десять лет за одно такое слово...» Я спросил одного знакомого, есть ли у него еще время читать. «Читать сейчас слишком опасно...» — ответил он.
— Когда ты иностранец, тебя лично это не касается, ты можешь везде ходить свободно. Но ты чувствуешь везде страх и апатию. Выходишь из дома, идешь по улице, ты знаешь, что происходит, ты не можешь об этом не думать — но говорить с тобой об этом никто не станет. Люди подавленно отводят взгляды. И ты сам боишься говорить: чуть дольше поболтаешь с уйгуром на улице — вечером к нему стучит полиция.
ШЫНАР И ЖАРКИНБЕК
15 ноября 2018 года, около полуночи, раздается звонок — звонит Серикжан Биляш: «Срочно езжайте в аэропорт, Жаркинбека отпустили! Он прилетает из Урумчи, мы уже ресторан сняли, Шинар едет его встречать, поедем пировать!» Мы собираем технику, вызываем такси, гоним. Приезжаем в аэропорт первыми, бежим к табло — самолет в воздухе. Появляются счастливые Шынар с Акжолом и активисты — и тут же снова звонит Биляш: «Его не выпустили на границе...» Шынар рыдает, ее увозят домой.
Через два месяца Жаркинбека все-таки выпустили — по-тихому, на автобусе через Хоргос. Мы встречаемся с ним вскоре после освобождения. Перед домом стоят огромные качели — поставили на Навруз (Праздник прихода весны. — «РР»), во дворе носится толпа детей. Вообще, кажется, жизнь тут довольно общинная. К нам сразу подбегает Акжол и кричит: «Мы с папой! Победили китайцев!»
Шынар и Жаркинбек — этнические казахи, но он родился в Китае, а она тут, в Казахстане. Большой двухэтажный дом на окраине Алма-Аты, разделенный на десяток квартирок. Каждая — две комнаты, между ними кухня. Туалет где-то на первом этаже. Шынар — бойкая, эмоциональная женщина лет тридцати, снимает одну из комнаток. Ее муж — оралман (Казах из Китая. — «РР»). Шынар показывает нам фотки Жаркинбека в молодости. Видно, что он писаный красавец, казахский Ален Делон.
— Подруги привели меня в один ресторан, а он там был поваром. Мы влюбились друг в друга с первого взгляда, через три дня поженились. У нас родился сын.
В 2016-м у Жаркинбека начались проблемы с чиновниками, ему аннулировали прописку и не дали вид на жительство — потребовали справку из Китая, что он там не совершал никаких преступлений. И срок действия его китайского паспорта уже подходил к концу. Жаркинбек сказал, что съездит в Китай и вернется через неделю.
Перейдя границу, Жаркинбек пропал — больше не звонил, не писал, найти его Шынар не могла. Через несколько недель ей пришло сообщение: «Я собираюсь жениться на другой женщине. Мы с тобой должны развестись. Я родился и вырос здесь, Китай мне дал все. У меня нет никаких дел в Казахстане, это бедная страна. Ты мне никто, можешь найти себе другого мужа».
ОДИН ИЗ БЫВШИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ РАССКАЗАЛ, ЧТО ОДНАЖДЫ ЕМУ И ВСЕМ ЕГО СОКАМЕРНИКАМ СДЕЛАЛИ УКОЛЫ, ПОСЛЕ КОТОРЫХ У НИХ, НАОБОРОТ, НАЧАЛАСЬ ЭРЕКЦИЯ. «ПОСЛЕ ЭТОГО НАС ЗАСТАВИЛИ РАЗДЕТЬСЯ ДОГОЛА И ОТВЕЛИ В КАМЕРУ К ЖЕНЩИНАМ. ОНИ ТОЖЕ БЫЛИ РАЗДЕТЫЕ, НАЧАЛАСЬ ОРГИЯ. И ВСЕ ЭТО СНИМАЛИ КАМЕРЫ
Жаркинбек сидит на диване, он похож на забитого подростка, кажется, что это одна треть от мужика на фотографии. Говорит тихим голосом, монотонно, устало, без эмоций. Тогда его задержали прямо на границе, в Хоргосе.
— Посадили в подвал на неделю. Проверили мой телефон, обнаружили там WhatsApp, он запрещен в Китае, допрашивали. Затем доставили в полицию в моем родном городе Боро-Тала. Там начали пытать, бить палкой и электрошокером, спрашивали: «В каких организациях ты состоишь в Казахстане? Кого ты встречал в Казахстане?» Пытали десять дней. Потом надели черный мешок на голову, перевезли в тюрьму. Где она, я не знаю. Большое здание, четыре этажа, тысячи на четыре человек, наверное, всех возрастов — от 15 до 75. Перед отправкой в лагерь медсестра сделала мне два укола, по одному в каждую руку, сказала, что это просто прививка.
Потом, в лагере, уколы нам делали постоянно. За любое нарушение — инъекция. Свет в камерах был круглосуточно, выключать не разрешали. Кто-то выключил свет — били или делали укол. В еде тоже было много лекарств, вкус был очень химический. Здоровье становилось хуже и хуже. Каждый день надзиратели заставляли нас убираться, мыть полы в тюрьме и во дворе, стирать чью-то одежду. И учить мандарин (Китайский диалект. — «РР») и историю Китая. Каждый месяц был большой экзамен по китайскому, приезжали экзаменаторы. Надзиратели нас предупреждали: не плакать, не делать того, не делать этого. «Произведите хорошее впечатление!»
Тем временем Шынар стала что-то понимать. Как-то раз она встретила на рынке старую женщину, казашку из Китая, стала жаловаться на жизнь, сказала про мужа. Женщина рассказала ей про концлагеря.
— Сказала, что надо обратиться в «Атажюрт» к Серикжану Биляшу — он помогает беженцам и тем, у кого родственники пропали в Китае. Их офис находился как раз через дорогу. Если бы не Серикжан, я не знаю, что бы делала, вообще не знала бы, как спасти Жаркинбека.
Дальнейшая жизнь Шынар превратилась в сплошные письма, видеопетиции, хождения по кабинетам с просьбой помочь вернуть мужа.
— Работать не могла, каждый день ходила в какие-то организации. Акжол должен был уже в школу идти, но его некому даже отвести было, ребенок дома сидел. Мы поехали в Астану, и перед дворцом Президента Акжол на камеру сказал: «Китай, отпусти моего папу!» Я сама снимала его, телефоном. Я из-за ютьюба уже прославилась среди местных, таксисты меня узнают. В МИДе мне сказали: «Калышева, остановись, пожалуйста, нам твои заявления уже девать некуда. Письмо они мне прислали такое: “Это внутренние дела Китая, мы не имеем никакого отношения к Китаю и не будем вмешиваться”».
— Когда она начала записывать петиции, меня привели к начальству, заставили позвонить ей и опять сказать, что я оставил ее, женился во второй раз, про лагерь не говорить. Я сказал — она ничего не ответила, заплакала только.
Шынар к тому моменту почти два года ничего не слышала про Жаркинбека, не знала, жив ли он. После второго звонка она еще упорнее стала писать, говорить с журналистами и ходить по всем инстанциям.
— В лагере я был 7 месяцев. Потом нас собрали примерно сто человек, все из Казахстана, — и перевели под домашний арест. На улицу выходить не разрешалось, каждый день ко мне приходил полицейский, допрашивал, записывал: «Что делал сегодня? С кем общался?» Я не делал ничего, после лагеря здоровье стало ужасное, я облысел. Так еще год прошел. Однажды пришел другой полицейский, достал смартфон, добавил номер жены в wechat и заставил в третий раз позвонить ей: «У меня все хорошо, новая семья, работа, не говори обо мне в Казахстане ничего».
— Я позвонил ей в третий раз, когда они приказали. А она не перестала говорить про меня, еще больше начала. Тогда они пришли, дали мне паспорт: «Все, езжай отсюда...» Отец мой до сих пор в лагере, брат в тюрьме.
Жаркинбеку повезло с женой. Те, чьи родственники громко и упорно шумят, имеют больше шансов выйти. Чтобы они умолкли, Китай предпочитает избавиться от человека.
Акжол непоседливо вертится вокруг, что-то спрашивает — его выгоняют на двор.
— Я из дома не выхожу. Работать не могу, я очень слабый. Сил хватает только на то, чтобы следить за ребенком. Сижу, пока Шынар на курсы шитья ходит. Нервы, ночью я не могу спать, панические атаки, голова часто болит, почки болят и... — переводчик не успевает договорить нам последнюю фразу, как Шынар взрывается слезами.
— Он говорит, что потерял потенцию, не может заниматься любовью.
Импотентами из лагерей возвращаются практически все. Женщины тоже говорили о потере желания заниматься сексом. Почему — пока не ясно. Не исключено, что инъекции приводят к чему-то вроде химической кастрации. С другой стороны, один из бывших заключенных на условиях анонимности рассказал нам, что однажды ему и всем его сокамерникам сделали уколы, после которых у них, наоборот, началась эрекция. «После этого нас заставили раздеться догола и отвели в камеру к женщинам. Они тоже были раздетые, началась оргия. И все это снимали камеры наблюдения».
Жаркинбек деревянно встает и идет во двор. Я вижу в окно, как он медленно подходит к качелям и качает Акжола.
РАХИМА
Она приехала неожиданно. Мы с ней не договаривались на это время, у нас было какое-то неотложное дело, и она часа четыре просто ходила за нами по Алма-Ате. Обычная затравленная мамашка, которую муж бросил с четырьмя детьми. Еле сводит концы с концами, работает где-то в торговле. Правда она сухая, высокая, не похожа на обычную сельскую казашку расплывшуюся. Потом мы уже пошли в ресторан, там сели, я взял вино, хотя никто со мной не пьет. И тогда она принялась рассказывать — ровным голосом, никаких эмоций, будто это не с ней было:
— В 2012-м я с мужем и детьми переехала в Казахстан. Получила вид на жительство, работала в Алма-Ате. В 2017-м мне позвонили с китайского номера, сказали, что из полиции. Попросили приехать в Хоргос — якобы что-то не то с моим смартфоном. Я еще не знала, что там началось. Но сомнение у меня закралось, я позвонила маме. Она говорит: «Да нет, не надо, не приезжай, просто купи другой телефон». А на следующий день перезванивает отец, с тревогой в голосе говорит, что надо срочно приехать домой: «У тебя долги, тебе надо с этим разобраться».
По пересечении границы Рахиму сразу задержала полиция. Ее допросили и увезли в тюрьму округа.
КАЖДЫЙ ДЕНЬ С САМОГО УТРА МЫ УЧИЛИ КИТАЙСКИЙ, КИТАЙСКУЮ ИСТОРИЮ, СМОТРЕЛИ СТАРЫЕ ФИЛЬМЫ ПРО ТО, КАК КИТАЙСКИЕ КОММУНИСТЫ ОСНОВАЛИ ЭТУ СТРАНУ. ЕДА БЕЗ МАСЛА И БЕЛКА, С СИЛЬНЫМ ПРИВКУСОМ ЛЕКАРСТВ. КОРМИЛИ ТРИ РАЗА В ДЕНЬ, НА СТОЛОВУЮ — ПЯТЬ МИНУТ
— Там мне устроили осмотр, сделали инъекцию в плечо и заковали в кандалы. Это такой способ обращения с новичками: кандалы снимаются с предыдущего заключенного и надеваются на следующего, пока еще кто-то в эту камеру не приедет. Но мне повезло: у меня они через неделю натерли ноги, пошла кровь. Одна уйгурка позвала надзирателя, сказала, снимите, а то у нее гангрена начнется, может обе стопы потерять.
Каждый день с самого утра мы учили китайский, китайскую историю, смотрели старые фильмы про то, как китайские коммунисты основали эту страну. Еда без масла и белка, с сильным привкусом лекарств. Кормили три раза в день, на столовую — пять минут. Было невозможно уложиться в пять минут, мы были всегда голодные, успевали только чуть-чуть поесть и выбрасывали тарелки. В камеру проносить еду было нельзя.
После того, как в шесть поужинаем, полицейский разводят по камерам — и ждем до 10 вечера. Просто сидели там, в камерах, по четыре часа. Было нельзя разговаривать друг с другом. Мы не могли смеяться, не могли плакать, просто сидели и молчали там. Каждую минуту мы были под видеонаблюдением. Не только говорить было нельзя, даже поворачиваться друг к другу. Если кто-то обернется — сразу предупреждали по громкой связи: «Номер 21, не поворачиваться!» У нас не было имен, только цифры: «Номера 1, 2, 3 — выйти!»
В 10 часов офицер приказывал: «Выключить свет и спать!» И мы спали. Два часа спишь — два часа сидишь на стуле, «дежуришь». Каждую ночь около 12 часов надзиратели приходили в камеры, выбирали самых красивых девушек от 16 до 25 лет и уводили на всю ночь к себе. Забирали и насиловали их группой. Я от этого не пострадала, но знаю молодых девушек, которых насиловали каждую ночь.
Там было 24 женщины, в соседних камерах 80 мужчин — уйгуры, казахи, дунгане, киргизы. Ни одного китайца. Каждую неделю всех собирали вместе на тюремном стадионе. Мы могли видеть мужчин по другую сторону забора. Утром мы просыпались и с шести до семи бегали по кругу во внутреннем дворе, весь час. Затем пять минут на завтрак, потом спускались в камеру в подвале. Не было никакого окна, воняло, было тесно и много людей. Все чувствовали себя плохо, часто сокамерницы теряли сознание, но мы продолжали учебу. У многих были болезни, у каждого было что-то. Врачам было все равно, они не делали никаких анализов, отношение к нам было как к животным. Если ты жаловалась, доктора и полицейские просто орали: «О! Ты не болеешь, ты притворяешься! Не говори, что ты болеешь! Думаешь, тебе это поможет выйти отсюда? Ни за что!» За жалобы они только били нас, орали и угрожали. У меня до сих пор очень плохо со здоровьем.
Я пробыла в лагере всего четыре месяца. Я была из счастливчиков, у которых есть родственники за границей. Мой бывший муж и дети не переставали писать и снимать видеопетиции. Меня выпустили, перевели на два месяца под домашний арест — с ежедневным посещением школы китайского, два часа каждую ночь. Утром всех нас собирали на церемонию поднятия флага.
Перед тем, как Рахиме отдали паспорт, ее заставили написать бумагу, что она никогда никому, даже детям, не расскажет про существование лагерей, не будет встречаться с правозащитниками и журналистами, не будет критиковать политику правительства Китая. «Если расскажешь — неважно, где ты будешь, в Казахстане, в США, в Европе, — мы найдем тебя». Первое время дома Рахима так и делала. Молчала.
— А потом подумала, что я скоро умру, у меня ужасные головные боли, я не могу терпеть, даже думать нормально, ни на чем сфокусироваться не могу, и к мужчинам влечения никакого нет у меня, — Рахима говорит монотонно, абсолютно неэмоционально, как и многие, вернувшиеся оттуда. Я понимаю, что она совершенно убита, в депрессии. Удивительно, как она вообще приехала.
Я С ТОБОЙ НЕ ЗНАКОМ
— На улицах стали проверять телефоны, контакты, — рассказывает Женя. — Если там иностранное лицо — это подозрительно, тебя могут забрать. Друзья стали меня удалять. Один друг несколько раз удалял меня, опять добавлял - потом удалил совсем и вышел из всех групповых чатов. Это был мой близкий друг, мне очень хотелось его увидеть. Я не стал писать ему напрямую, но написал в одну группу, где мы оба были, что я приглашаю всех на встречу на пиццу в одном кафе. Он написал: «Хорошо, я приду».
В результате пришли туда только мы. Обед получился очень неловкий. Я видел, ему кажется, что за нами следят. Слишком много нужно было сказать, но свободно говорить было невозможно. Мы просто сидели молча и ели. Я показал ему черновик своей книжки — он взял, молча посмотрел и отложил в сторону, не стал даже листать. Потом я спросил про одну нашу знакомую, не знает ли он, где она сейчас. Он говорит: «Нет, я больше с ней не знаком...» Потом добавил: «Я даже с тобой сейчас не знаком». Мне казалось, что он сейчас расплачется. Больше мы с ним не виделись.
Раньше в Кашгаре на одном месте всегда сидел умственно-отсталый мужчина. Если я шел по улице, он всегда ко мне подбегал, с расстегнутыми штанами, широко улыбался. Несколько лет назад в Китае сделали телесериал по книжке «Как закалялась сталь», уйгурам он тоже очень нравился. И он всегда тряс мне руку и спрашивал: «Корчагин, как дела?! Корчагин живой?» Но потом атмосфера на него тоже повлияла. Прошлой осенью он уже не вскакивал, а тихо и неподвижно сидел на лавочке, когда я проходил мимо. А потом и он исчез.
— Самый откровенный разговор у меня состоялся, как ни странно, с полицейским, — продолжает Бунин. — Вернее, с постовым, который дежурил у ночного рынка. Это было в одной маленькой чайной, куда я заходил. После обеда он не работал, сказал, что только что вернулся с медосмотра. И он спросил: «Что ты думаешь про уйгуров? Какой мы народ? Хороший или плохой?» Этот вопрос мне неоднократно задавали за годы, проведенные в Синьцзяне. Мне он всегда не нравился, я никогда не знал, что отвечать, и всегда чувствовал, что там есть какой-то политический подтекст. Я говорю: «Есть плохие, есть хорошие, как у каждого народа». Но он не отстал: «Ты не говоришь, что на самом деле думаешь. Скажи честно. Погляди вокруг, ты же сам видишь, что происходит. Мы — уничтоженный народ!» Я испугался, что он меня проверяет, он же полицейский, в форме. Если я соглашусь, он на меня донесет. Разговор кончился неловко. Но теперь я понимаю, что это был настоящий крик отчаяния. Через несколько дней он исчез, на посту я больше его не видел.
— Мой друг Карим, — рассказывает Женя, — пропал в мае 2017-го. Он был замечательным ресторатором. Его ресторан был ужасно теплым местом, там всегда было какое-то чувство общности. Карим умел так общаться с посетителями, что между столиками всегда завязывалась какая-нибудь дружеская умная беседа, причем про что-нибудь правда важное.
Когда Бунин снова приехал в Гуанчжоу, то увидел, что ресторан закрыт. Он поехал в другой уйгурский ресторан, и хозяин сказал, что за Каримом пришли, заковали в наручники и увели — за то, что он тоже в свое время жил в Египте и в Турции. А потом им кто-то передал, что Карим «умер» в тюрьме.
— Я вышел оттуда и понял, что больше оставаться в Китае не могу. Мне было ужасно противно. Каждый раз, разговаривая с полицией, я сразу им грубил, я боялся, что в любой момент могу полезть в драку и это плохо кончится.
ЗОРКИЙ ВЗГЛЯД
По официальным данным, к будущему году в Китае будет уже 626 миллионов камер слежения. Плотность покрытия в Синьцзяне во много раз выше, чем в остальном Китае. На зданиях Урумчи, Кашгара и других городов — целый лес механических глаз. Журналисты не раз задавались вопросом: «Кто же в них смотрит?»
За последние месяцы было опубликовано несколько исследований, дающих представление о том, как устроена система слежки в Синьцзяне. Прежде всего это доклад Human Rights Watch «Алгоритмы репрессий в Китае».
Human Right Watch рассказывает, что всю информацию анализирует искусственный интеллект, получивший название IJOP (Integrated Joint Operations Platform. — «РР»). Эта нейросеть, созданная Народно-Освободительной Армией Китая в рамках ее новой цифровой военной доктрины C4ISR, теперь является частью национальной программы «Зоркий Взгляд», которая должна покрыть весь Китай сетью технологий слежения.
Искусственный интеллект оперирует системами распознавания лиц. Как пишет Пол Мозур из New York Times, нейросеть умеет определять по лицам уйгуров и занимается этим по всему Китаю. Ни полицейские отчеты, ни даже рекламные тексты компаний (например, Yitu, CloudWalk, Hikvision) этого не скрывают. Тибетцы, уйгуры, казахи и другие меньшинства считаются подозрительной категорией населения, власти нисколько этого не стесняются.
В прошлом году КПП стали оснащаться новыми «воротами», которые, помимо прочего, сканируют отпечатки пальцев и радужную оболочку глаза, а также проверяют смартфоны и прочие девайсы. Раньше полиции приходилось шерстить все телефоны вручную, теперь машина сами считывает их MAC-адреса и номера IMEI и сканирует на предмет наличия обязательных и запрещенных (Viber, WhatsApp, Telegram, VPN) приложений и контента — ссылок, контактов, загрузок и тому подобное. Вся информация улетает в IJOP.
Очевидцы, видевшие интерфейс «ворот», сообщили HRW, что полиции предъявляется профайл входящего — имя, пол, личный номер, профессия, семейное положение, судимости, приводы в полицию, был ли в лагере перевоспитания, степень благонадежности, получал ли загранпаспорт, бывал ли за границей, когда, где, как долго и зачем. Система оценивает подозрительность проходящего по 100-балльной шкале. Уйгуры и казахи автоматически получают 10 пунктов, люди старше 15 и моложе 55 — еще 10, верующие — еще 10.
Люди ждут в очереди, пока машина сделает снимок и разрешит пройти. Если что-то не так — звучит сигнал тревоги и «ворота» сообщают полицейским, что следует делать: опросить, задержать для расследования или немедленно арестовать.
Такая же система стоит на всех заправках — заправиться можно, лишь предъявив системе документы водителя и автомобиля.
HRW сообщает, что в начале прошлого года все мусульмане Синьцзяна были обязаны в течение 10 дней установить на телефоны приложение JingWang — третий глаз IJOP. Оно сканирует и передает нейросети всю активность пользователей — все, что они читают, пишут, говорят, все контакты и передвижения. Пользоваться телефоном без JingWang запрещено, равно как и выключать телефон или пользоваться чужим.
IJOP сигнализирует полиции о подозрительном поведении. Например, крестьянин, покупающий обычно 5 килограммов удобрений, неожиданно покупает 15. Система посылает к нему полицейских для выяснения вопроса. Если оснований для беспокойства нет, они удаляют в приложении флажок опасности. Прежде всего полиция должна следить за теми, кто находится вне района прописки. Также IJOP сразу посылает полицейских к тем, чей телефон, электронное удостоверение или автомобиль оказались вне зоны доступа, и тем, кто пользуется чужим телефоном.
Нейросеть сводит вместе информацию, полученную с телефонов, камер слежения, чекпойнтов, полицейских отчетов, «фаньчжоу» и прочих ресурсов для создания многомерных профайлов. Туда включены биометрические и медицинские данные (в том числе фертильность, психические нарушения, хронические болезни), сведения о наркозависимости, дорожные штрафы, учебные и рабочие записи, семейные связи, данные о собственности, общественной активности (например, жаловался ли человек на государственные органы), юридическая и финансовая история и масса всего другого.
Начиная с 2017 года, все синьцзянские мусульмане от 12 до 65 лет обязаны сдавать подробный биометрический и ДНК тест — фотографии лица в разных ракурсах, других частей тела, анализ крови, отпечатки пальцев, скан сетчатки глаза, запись голоса и образцы волос.
Поскольку IJOP следит за всеми, она умеет анализировать отношения между людьми. Например, кто вместе обедает, путешествует или ночует в отеле. Нейросеть в онлайн-режиме следит за тем, где и с кем находится каждый, понимает, чем они занимаются, и может предсказывать их дальнейшие действия. Она сигнализирует полиции об активности, которая кажется подозрительной, — например, если кто-то, живущий в этом городе, ночует не дома, а в гостинице.
Министр общественной безопасности Китая Мэн Цзяньчжу заявил в 2015 году, что новые технологии обработки данных позволят найти логику в действиях любого человека.
В марте голландский исследователь Виктор Геверс из GDI Foundation обнаружил незапароленный вход в одну из подсистем IJOP — базу данных шэньчжэньской компании, подрядчика китайской полиции, SenseNets Technology, содержащую онлайн-информацию о слежке за 2,5 миллионами человек и 6,7 миллионами адресов в Синьцзяне. Кроме того, база показывала, что переписка во всех шести разрешенных в Китае мессенджерах маркируется паспортными данными пользователей и координатами GPS. Алгоритм ежедневно просматривал переписку 364 миллионов жителей. Сообщения, которые он находил опасными, автоматически направлялись в полицейские участки.
Ежедневно в восемь утра IJOP посылает на телефоны полицейских сообщения обо всей запрещенной или опасной активности в их районе. На основании анализа нейросеть подсказывает властям, что следует сделать с подозреваемым — отправить в тюрьму, в лагерь перевоспитания, под домашний арест, запретить покидать район прописки или заходить в публичные места. Презумпция невиновности к членам социально-опасных групп (например, к мусульманам) не применяется.
В марте немецкий исследователь Адриан Ценц опубликовал доклад, посвященный масштабу системы концлагерей в Синьцзяне. Он основывался на спутниковых снимках, исследовании данных тендеров и госзакупок в сфере строительства, внедрения систем слежения, бюджетов различных отраслей, таких как безопасность, система наказаний, суды, профессиональное обучение. Ценц считает, что в лагерях региона сейчас находятся примерно полтора миллиона человек.
БАЗА
— Переехав в Алма-Ату, я еще надеялся заниматься книжкой. Но со мной связался один активист, сказал: «Есть свидетели, бывшие узники, ты мог бы помочь?», — рассказывает Женя. — У меня были друзья, западные журналисты, я пытался их привлечь, потом стал писать сам. Однако всякий раз, когда я приходил в «Атажюрт», там было десять или двадцать родственников исчезнувших, и они все хотели поговорить с журналистами. А ты не можешь писать о каждой отдельной жертве. Все время появляются новые показания, родственники записывают видеообращения, пишут в фейсбуке — но все это тут же теряется, забывается. Я понял, что надо делать следующий шаг, важно это задокументировать и структурировать. В сентябре прошлого года я начал собирать базу данных по всем узникам — shahit.biz. Сейчас в ней 4027 свидетельств, и каждый день добавляется около двадцати.
Так лингвист Евгений Бунин создал замочную скважину, сквозь которую мир увидел происходящее в лагерях Синьцзяна.
— До ноября я еще пытался заниматься лингвистикой, но потом понял, что это для меня сейчас намного важнее. Ты не можешь рассказать про каждого человека, но можешь добавить его в базу, описать случай, записать свидетельские показания, можешь дальше следить за этой историей. И потом порекомендовать журналистам. Допустим, кто-то захочет написать о детях — он залезет в базу и найдет сотни показаний о пропавших детях. Где-то будет видео, можно увидеть реального человека, говорящего об этом. И это намного сильнее, чем сказать, что там просто есть 100 таких случаев. По базе ты можешь анализировать, что там происходит, — искать по времени задержания, полицейским участкам, тюрьмам, лагерям, по полу, возрасту, национальности и так далее.
— А в остальном Китае люди знают о том, что происходит в Синьцзяне?
— По большей части — нет. Никаких независимых СМИ нет, интернет под контролем, все отслеживается. Информация только из китайских СМИ: «Там все хорошо, мы боремся с терроризмом, туда можно ехать туристам, никто на вас не нападет». Многие верят, что там действительно бардак, что этим надо было заниматься, у уйгуров в головах экстремизм, их надо обучать. Я пытался говорить, даже спорить на эту тему, но это трудно. Мне говорят: «Ты что, правда думаешь, что миллион людей сидит в лагерях просто так? Ну, наверное, они что-то все-таки сделали...» Очень трудно переубедить. Если начинаешь критиковать власть, у них уже инстинкт не соглашаться с тобой. Они, может, и сами что-то понимают, но они давно научились, что в политику лезть не надо. Плюс есть и исламофобия. Люди понимают, что происходит жестокость, но им просто плевать на уйгуров, на мусульман. Мусульмане — это плохие люди, которых надо контролировать.
ПУТЬ МОЛЧАНИЯ
Пытаясь объяснить происходящее в Синьцзяне, эксперты обычно говорят про «Один пояс, один путь» — гигантский инвестиционный мегапроект, начатый Китаем. Проект должен охватить почти всю Евразию и восточную Африку и состоит, грубо говоря, в том, что Китай строит по всему континенту транспортную и торговую инфраструктуру — хайвеи, железные дороги, порты, молы и так далее. Не знаю, объясняет ли это, почему его жителей загнали в лагеря. Но это, безусловно, объясняет, почему молчит и Казахстан, и другие страны.
МНОГИЕ ВЕРЯТ, ЧТО ТАМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БАРДАК, ЧТО ЭТИМ НАДО БЫЛО ЗАНИМАТЬСЯ, У УЙГУРОВ В ГОЛОВАХ ЭКСТРЕМИЗМ, ИХ НАДО ОБУЧАТЬ. Я ПЫТАЛСЯ ГОВОРИТЬ, ДАЖЕ СПОРИТЬ НА ЭТУ ТЕМУ, НО ЭТО ТРУДНО. МНЕ ГОВОРЯТ: «ТЫ ЧТО, ПРАВДА ДУМАЕШЬ, ЧТО МИЛЛИОН ЛЮДЕЙ СИДИТ В ЛАГЕРЯХ ПРОСТО ТАК?»
Как только Серикжана Биляша арестовали, китайские газеты сразу написали, что полностью поддерживают антитеррористическую кампанию Казахстана. Что Серикжан задолжал в Китае кучу денег правительству и потому сбежал.
Казахские СМИ о Синьцзяне молчат — табу. Сразу после отставки Нурсултан Назарбаев был награжден высшей наградой Китая — «Орденом Дружбы». А новым Президентом стал дипломат, специалист по Китаю, Касым-Жомарт Токаев.
Исламские государства, бесстрашные борцы с карикатурами на Мухаммеда, — Пакистан, Иран, Саудовская Аравия — тоже молчат в тряпочку. МИД России, понятно, полностью поддерживает борьбу Пекина с терроризмом. А МВД и Правительство Москвы закупает китайские системы распознавания лиц. Из мировых лидеров Пекин осудили лишь Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган. Но от китайских инвестиций Анкара отказываться не собирается. Впрочем, и Европа особо не скандалит.
«Нацистам было легко уничтожить евреев, — писал Ян Карский, — потому что они делали это. Союзники решили, что невозможно и слишком дорого спасать евреев — потому что они этого не делали. Евреи оказались оставлены всеми правительствами, церквями и обществами. Сейчас все правительства и церковь говорят: “Мы пытались помочь”, потому что им стыдно и хочется сохранить репутацию. Но они не помогали — потому что шесть миллионов евреев убиты, а эти правительства и церкви в порядке».
Коментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.