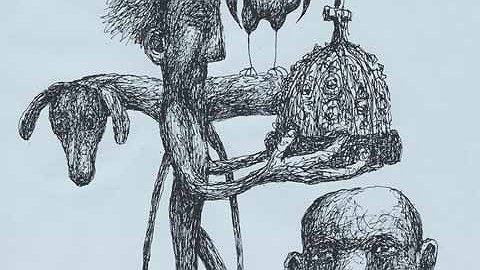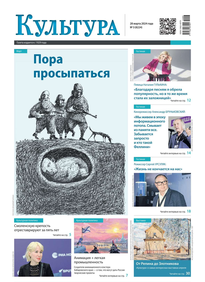Мы привыкли к тому, что слово «ревизия» в контексте истории — это ее очернение. Но что, если уйти за пределы привычных клише и попытаться понять ревизионизм как самостоятельное явление? Ответить на вопрос о том, почему каждая эпоха начинается и заканчивается ревизией?
«К нам едет ревизор» — комичное восклицание из бессмертного произведения Николая Гоголя, знакомое со школьной скамьи. Почти любую историческую публицистику, а подчас и множество профессиональной литературы, посвященной знаковым историческим событиям, можно подвести под эту классическую фразу. Подвергая сомнению моральный ориентир, который зачастую воплощен в крупном историческом событии, человек, общество, государство, коалиция государств незамедлительно оказываются «ревизионистами». Что на самом деле подпитывает реакцию и реакционеров? Представляется ли ревизия в этом контексте чем-то с явно негативным оттенком, как, например, реваншизм? Для того чтобы лучше понять природу исторического ревизионизма, мы решили условно выделить четыре ее основных аспекта: историкокультурный, идеалистический, политико-государственный и психологический.
Историко-культурный ревизионизм
Любая литература — отражение текущей культурной и социальной реальности. И в этом смысле ревизия — не что иное, как обычный и даже привычный способ осмысления культуры. Ревизия живет как циклический процесс, призванный анализировать историю, раскладывая составляющие ее факты и события на удобоваримые формации и отметая все «ненужное». Уходя немного в лирику, можно сказать, что не история идет по спирали, а процесс осмысления этой истории ходит по ревизионистскому кругу. Фактически само историческое сознание является ревизионистским по своей сути, потому что его носитель — исторический субъект — подвижен и постоянно переосмысляет себя и свою судьбу. Достаточно посмотреть на следующий ряд больших пересмотров прошлого, чтобы убедиться этом. Софисты в Древней Греции первыми начали рационализировать миф и религию. Вместо того чтобы жить в священном трепете перед традициями прошлого, они обратились к исследованию человека как такового, исключая из рассмотрения контекст прошлого. Этот интеллектуальный эпатаж закономерно не вызвал ничего, кроме гнева афинян. Но сделанное софистами привело к огромным сдвигам в грядущих культурных процессах. Другой пример: труд Блаженного Августина «О граде Божием». В 410 году Рим впервые пал под натиском вестготов, которые подвергли разорению Вечный город. Впечатление для современников: свершилась катастрофа. И тогда Августин садится писать огромный исторический трактат, в котором, осуществив глобальную ревизию всей истории, создает новую концепцию, новый взгляд на историю. Для него история — это отрезок, который идет от первого дня творения к Страшному суду. И
смысл всей истории заключается как раз в том, что это движение к Судному дню необратимо. Доказывал он это путем реконструкции истории древности, прошедшей через сито его христианского ревизионизма. Такой же тектонический сдвиг в западной культуре предвещал и Ренессанс. Гуманисты, как и положено в такие кризисные эпохи, так же осуществили ревизию, впервые создав образ зловещего, грязного и бескультурного Средневековья, на фоне которого наступающая эпоха обещала лишь одно: осуществление подлинных ценностей «золотого века». Такое видение Средних веков было закреплено впоследствии деятелями эпохи Просвещения, находившимися «в центре» сдвига, породившего позже государство модерна. То, с какой страстью в ту эпоху переписывалась история, особенно сильно проявилось в момент Великой французской революции. Как пишут Огюстен Кабанес и Леонард Насс в книге «Революционный невроз»: «...Ничто, напоминающее феодализм, не должно было существовать; от него не должно было остаться в настоящем ни малейш его следа. Все, что вызывало воспоминания о прошлом, даже на табакерках, бонбоньерках, медалях, пуговицах и т.д. — было обречено на уничтожение... Знаменитый ученый, член упраздненной революцией Французской академии, потребовал уничтожения королевских гербов на переплетах Национальной библиотеки. И когда ему заметили, что подобная операция обойд ется примерно в 4 миллиона, то Лагарп, — так как это был именно он, — с легким сердцем отвечал: «Можно ли говорить о каких-то четырех миллионах, когда речь идет об истинно республиканском деле?». Как видим, большие процессы в культуре, смены глобальных парадигм идут «рука об руку» с ревизионизмом.
Ревизионизм как идеализация прошлого «Историческое Событие, — замечает Николай Хренов, — есть произведение культуры. И функция этой культуры — сохранить в своей памяти только то, что подтверждает идеальный образ народа. В данном случае культура работает как цензура: она выбирает только те факты, которые подтверждают этот образ». В этих словах раскрывается иной аспект ревизионизма — как идеализация прошлого, его героизация. Обратимся к древнему, но наиболее масштабному примеру подобного идеализирования. Александрийская библиотека — первая консолидированная агрегация исторического знания. Истинное чудо Древнего мира, она вмещала в себя несопоставимую по масштабам коллекцию свитков. Размерам ее фонда предписывалась астрономическая по тем временам цифра: 700 тысяч экземпляров. Династическая война между Клеопатрой и Птолемеем XIII, активное участие в которой принял Юлий Цезарь, по оценкам ряда римских историографов, стала истинным бедствием для библиотеки: большинство фондов сгорело в величайшем пожаре, охватившем книгохранилища. Бушующее на кораблях противника пламя, обеспечившее финальную победу войск Цезаря, перекинулось на город. В огне сгинули бесценные памятники античной литературы: драмы греческих трагиков и комедиографов, философские трактаты, поэтические собрания — тексты, известные исключительно по спискам. Однако исследователи отмечают подозрительные несостыковки. Так, например, ряд современников в своих историографических описаниях не упоминают пожар вовсе. Разумеется, позднейшая традиция подхватила идею чрезвычайно драматичного события. Начиная с позднего Средневековья, авторы нераздельно повествуют о библиотеке и о том, как культура уступает под пламенем войны. Хтонический символ огня, кочуя с пожара гражданской войны на пепелище великой библиотеки, передает нам как бы запечатленные в нем переживания. Гибель прежней культуры — вот то, что фиксирует это пламя. Как и в романе Умберто Эко «Имя Розы», гибнет не книга, но культура книжников. Это сравнение усиливается и теми внутренними процессами, которые сложились в александрийской системе задолго до легендарного пожара. Фальсификация охватила библиотеку еще до пламени: из-за относительно благих намерений Птолемеев собрать в стенах библиотеки полные собрания Платона, Аристотеля и других известных мыслителей, появляется множество трудов, приписываемых этим авторам. За сдельную плату из-под пера анонимов выходят новые «трактаты» известных творцов. Не будет преувеличением сказать, что фальсификация во времена Александрийской библиотеки была поставлена на поток. Постепенная утрата библиотеки, которая происходила после упомянутой гражданской войны и до III–IV веков нашей эры, не означала спада в числе фальсификатов. В Средневековье фальсификация проникает во множество источников: от поэтического и философского наследия античности до династических списков — Средневековье полнится преувеличениями и откровенными подлогами. Подложные династические списки выводят фальсификацию на новый уровень. Текст теперь де-факто определяет права человека, в том числе его права на престол. Начиная со Средневековья, в Европе происходит бум лжеправителей. Идеальный образ — вот цель культуры, которая по-разному переживает его, в том числе и через историческое осмысление. Неважно, когда действительно погибла Александрийская библиотека и насколько масштабной она была. Важна неувядающая память о великой культуре, до которой мы не можем дотянуться даже сейчас. Примеры идеальных ревизоров, событий, которые сами диктовали своим авторам и акторам сюжетные пути, показывают, что ревизия — это бессознательный, а не искусственный процесс. Этот процесс цикличен, вечно актуален в своей мифологичности. Как и к каждой ревизии, представляющей собой сюжетную трансформацию, некоторый каскад переоценок, к нему хочется возвращаться, его комфортно и приятно проживать.
Ревизионизм как государственная политика
Один из самых невероятных примеров ревизионизма, который разворачивался прямо на глазах современников, — шествие Наполеона на Париж в 1815 году. Ниже в хронологическом порядке приведены переводы показательных заголовков ведущих французских изданий того времени: «Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан», «Людоед идет к Грассу», «Узурпатор вошел в Гренобль», «Бонапарт занял Лион», «Наполеон приближается к Фонтенбло», «Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже». Эта яркая, почти литературная палитра принадлежала перу одних и тех же авторов. И тут нельзя говорить о трусости и уж тем более шутить про присущий местному характеру коллаборационизм. Уже после третьего заголовка ощущается некоторая историческая точка, в которой сильный начинает диктовать историю. Политическая ревизия, в отличие от культурной, всегда основана на диктате силы — разумеется, силы не всегда персональной, но зачастую событийной. Источники, будь то свидетельства, древние тексты или же исторические учебники, должны укреплять авторитет власти. Возникновение же исторической политики как таковой — явление сравнительно недавнее. Оно относится к эпохе становления и развития национальных государств. Их главы тогда только начинали задумываться о том, каким образом скрепить и связать между собой людей. Всех тех, кто оказался внутри границ, очерчивающих новые государственные образования. Для этого на помощь приходит конструирование такого прошлого, которое подтверждает славу и величие ее наследников — то есть людей, осуществляющих власть, и их подданных. Одним из самых эффективных способов подобного собирания правильного образа прошлого для того, чтобы затем поместить его в сознание граждан, является учебник истории. Известно, например, что тот же «Учебник по истории СССР», вышедший в 1936 году, курировал Сталин, а учебник 1963 года создавался под строгим контролем отдела школ ЦК КПСС. «Учебник истории не может быть понят без учета того, что он является предметом идейно-политических забот государства, — отмечает исследователь В.М. Бухараев. — Бюрократические учреждения прямо или косвенно формируют такой корпус пособий, который способствует легитимации наследуемой системой исторической традиции. Утверждает официально выверенную культурно-национальную идентификацию обывателей». Можно привести и другие примеры. Так, до недавнего времени в Европе никому не была интересна государственность Шотландии, поэтому никто даже и не думал отстаивать подлинность поэм Оссиана, столь популярных в эпоху романтизма. Достоверность же «Слова о полку Игореве» не подлежит сомнению в первую очередь потому, что обратная точка зрения, по словам академика Лихачева, «не патриотична». Мы берем в ренту необходимое нам прошлое. Достоверное или недостоверное, хронологическое или культурное — детали несущественны. Главное, чтобы это прошлое работало, создавая образ сильного народа и сильной власти, славной своими подвигами и победами. Доступ к этому прошлому открывается только тогда, когда сильный игрок готов «приумножать» капитал истории и культуры, когда он готов освоить эту государственную механику на благо самого государства, его истории и культуры. Этот механизм работает в тестовом режиме, когда государство еще не окрепло. Первое десятилетие нового государства (для нашей страны это двадцатые и девяностые годы ХХ века) запускает в работу исключительно негативную ревизионистскую программу, когда большинство моментов предыдущего уклада, строя, государственного аппарата признаются деструктивными и как бы внеисторическими. Если мы обратимся к первым годам нашего социализма, то невооруженным глазом увидим поэтапное обнуление истории. Но прошлое не терпит пустоты, и на пустыре двадцатых годов активно разрастается «Сталинская империя», исторически цепляющаяся за византийский миф и имперский уклад. В девяностые годы в нашей стране ощущается ностальгический всплеск в отношении Российской империи. Имперские амбиции, подкрепляемые историей и культурой, неизбывны в сознании ее жителя. Точно так же триумфальное возвращение Наполеона сопровождалось реактуализацией имперского сознания. Можно сказать, что история — щедрый рантье, отдающий свое пространство под ревизию сильному и не терпящему конкуренции государству. Ревизионизм как психологическая проблема Всякое прошлое — это источник не только гордости, то, чем можно вдохновляться сегодня, но нередко и страха: прошлое всегда наполнено ошибками, проступками и преступлениями. Что с ними делать? Можно сознаться в них и жить дальше, но на это способна только великая совесть. Есть другой способ — сказать, что этих проступков не было, и так снять свой страх перед прошлым. Или, даже лучше, свалить вину за них на другого. Тем более в тех ситуациях, когда подобный ревизионизм оказывается еще и удобным механизмом для того, чтобы легализировать свой статус в качестве нового государства. Именно это мы и наблюдаем все последние годы в странах Восточной Европы, Прибалтики и в некоторых других постсоветских уголках.
Наверное, нигде в мире не отзывается такой болью демонтаж памятников нашим соотечественникам другими государствами, как в наших сердцах. К сожалению, братьям-славянам из Восточной Европы известна эта русская слабость, и с приближением Дня Победы наши медиа наполняются тревожными новостями про пустеющие пьедесталы. Каждый памятник советскому прошлому — триггер. Для нас это неприкосновенная память о Великой Победе над фашизмом, об освобождении Европы. Разрушение такого памятника становится святотатством. Для них — напоминание о годах послевоенной зависимости. Разбить такой памятник — вознести необходимую жертву своей суверенности. Этот конфликт памятников обнажает множество психологических проблем, которые оставила Великая Отечественная война. Поскольку это Событие, сакральное во всех смыслах, нанесло нам неизгладимую травму, которую мы до сих пор не можем преодолеть, свыкнуться с нею. Иосиф Бродский в своей статье «Почему Милан Кундера несправедлив к Достоевскому» затрагивает психологические аспекты, отличающие русское самосознание от восточноевропейского. Иронически комментируя биографический эпизод Кундеры, когда того задерживает русский солдат и просит предъявить документы, Бродский проходится по насущным моментам, связанным с персональным ощущением истории и непосредственной встречей с ней. Остановленный Кундера описывает личность советского солдата в этом эпизоде своей биографии, прослеживая истоки его действий в экзистенциях Достоевского — находит «достоевщину» в каждом русском.
По поводу его критики Достоевского Бродский пишет следующее: «Кундера лихорадочно озирается вокруг в поисках того, на кого бы свалить вину за происходящее. Чувствуя себя уверенно только в пределах принадлежащей ему собственности, он, естественно, обнаруживает виноватого в том, чья стилистическая идиома представляется ему чуждой. Скорее всего, идиома эта и раньше представляла угрозу и для него самого, и для его самооценки. Теперь же, когда на него обрушились невзгоды, он инстинктивно указует пальцем в знакомом направлении. Короче говоря, появляется Милан Кундера с «Предисловием к вариации», палец его уверенно упирается в Достоевского». Так работает политическая ревизия в конфликтных ситуациях: мы указуем пальцем на нашего оппонента, пытаясь подверстать под него все исторические факты, которые есть у нас под рукой, всю культурную формацию и каждый идеологический аспект, чтобы оправдать собственную неполноценность. Так появляется образ России-агрессора, рассказы об одном тотальном «ужасе» советской оккупации, фигура государства, которая 9 Мая должна не праздновать, а вспоминать, как была жертвой — сначала нацизма, а затем — сталинизма. Иногда подобного рода внешняя ревизия нашей истории, обладающая чертами фальсификации, очень напоминает теорию заговора. В таких случаях, следуя политическому и медийному дискурсу, мы ощущаем, что все, что ни делает наш противник, направлено против нас. Нельзя тут не вспомнить о пресловутом русофобстве, о котором так любят говорить наши политики. Однако же в частных случаях, когда речь заходит не об ощущениях нации, а о переживаниях одного человека, эти переживания окрашиваются в болезненные тона. Такими представляются ощущения Милана Кундеры, такими видятся переживания одного из персонажей Достоевского. Поэтому ревизионизм — на уровне личности — рождается как страх перед своим прошлым и в этом аспекте, став орудием в руках власть имущих, превращается в инструмент геополитической борьбы. Прекрасный пример — генерал Иволгин, второстепенное лицо романа «Идиот» — фактически живет собственной ревизией и фальсификацией. Затеняя личную трагедию, он обращается к сюжетам из «Индепендента» и других изданий. Вписывая себя в чужие истории, он как бы забывает свою собственную, видимую всем остальным. Болезненное чудачество Ардалиона Александровича, увы, остается неизлечимым. Отказ от личной трагедии, нивелирование ее смысла — все это отдаление от истории. Встречи с ней не происходит. А происходит ревизия, подмена, из-за чего событие теряет свою сакральность. Именно в этот момент смущения, а если пользоваться другим корнем этого слова — в момент конфуза, и улавливает нас исторический ревизор.