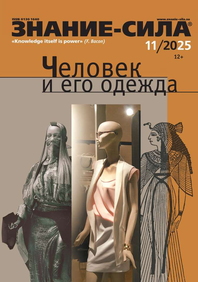В самом деле, мы встречаем это всюду и в самых разных редакциях. Сектанты различных мастей пугают этим своих последователей и заставляют их собираться вместе, чтобы достойно встретить конец свой и мира.
Кинематографисты то и дело выпускают на экран ленты, где или происходит вселенская катастрофа, или, по меньшей мере, речь идет о ее реальной угрозе. Лишь героические действия героя-храбреца или команды «хороших парней» не дают сбыться планам по уничтожению мира или его части.
Философы то и дело сообщают о «смерти» целой культуры (чаще всего европейской). Порой речь идет о «смерти» части культуры – философии, кинематографа, поэзии, театра – или ее источника: автора, человека, субъекта...
Те, кто пытается составить обзоры предсказаний такого рода, неизменно отмечают их исключительное обилие. Исследователь русского «Серебряного века» Леонид Кацис обращает внимание на огромный поток таких текстов на рубеже XIX–XX века. «Апокалипсис русской поэзии» Андрея Белого, «Апокалипсис в русской литературе» Алексея Кручёных, «Апокалипсис нашего времени» Василия Розанова и др.
В книге антрополога Марии Ахметовой* речь идет о сектантской эсхатологии в постсоветской России, и мы опять поражаемся обилию фактического материала. Россия предстает здесь как страна, переполненная сектантскими организациями, и, как водится, каждая из этих организаций в своей идеологии отводит место эсхатологической тематике.
Схожий пейзаж у французского исследователя Марка Анжено. В своей небольшой работе «Взрыв апокалипсических настроений» (Русский журнал, 1998) он выделяет целый жанр: «Сумеречно-сумрачный прогноз – жанр французской культуры 80–90-х годов ХХ века» – и дает целый ряд его примеров. «Нищета идеологии» (Ален Дюамель), «конец социального» (Бодрийяр и другие), «конец политики», «конец демократии» (Геенно etc), утверждение «общества пустоты» (И. Барель), «власти эфемерности», наступление «сумерек долга» (Жиль Липовецки), эры «симулякров» и в конечном счете исчезновение реальности (Бодрийяр и его последователи), «упадок индивидуализма» (приход «эпохи племен», Маффесоли), «затмение общества» («Невидимое общество», Ален Турен), победа «варварства» (термин – от знаменитой альтернативы Энгельса и Каутского «социализм или варварство», Мишель Анри), прогресс «нечеловеческого» и конец прогресса (Лиотар), погружение в «конец темного века» (Макс Галло)…
Все авторы, описывающие этот феномен, задаются проблемой его природы. Его обычно связывают с рубежными периодами – с наступлением последнего века второго тысячелетия, с концом второго тысячелетия. Связывают его и с кризисными переходными эпохами – скажем, с переходом от советской власти к постсоветской демократии.
В любом случае речь о том, как описания конца света отражают культурные реалии, связаны с духом времени. Взглянем на это и с другой стороны.
Шедевры эсхатологического жанра
У Освальда Шпенглера читаем: «…будущее Запада оказывается не безбрежным потоком, стремящимся вверх и вперед по курсу наших сиюминутных идеалов и с фантастическими запасами времени, но строго ограниченным в отношении формы и длительности и неизбежно предопределенным единичным свершением истории охватом в несколько столетий…».
Пафос Шпенглера – в предсказании конца западной цивилизации, чему автор находит множество аналогий в истории иных цивилизаций, канувших в лету. Ясно, что читателю «Заката Европы», субъекту западной цивилизации, безразлично, что возникнет на ее обломках. Для него безусловная трагедия и повод для острого страха – то, что исчезнет именно она, средоточие его ценностных переживаний. Гибель западной цивилизации для европейца – не просто переход к новым цивилизационным формам, как предполагается в циклической концепции культуры, а смерть его мира. Другого мира он себе не представляет. Отсюда и острый страх апокалиптической природы. Не будет преувеличением предположить, что он и обеспечил книге Шпенглера привлекательность, огромный успех, волну подражаний.
Интересно сопоставить Шпенглера с другим автором апокалиптического толка. «То, чему мы, вероятно, свидетели, – пишет Френсис Фукуяма, – не просто конец холодной войны или очередного периода послевоенной истории, но конец истории как таковой, завершение идеологической эволюции человечества и универсализации западной либеральной демократии, как окончательной формы правления».
Ясно, что концепту «конец истории» придается конкретный идеологический смысл. Имеется в виду завершение борьбы за форму идеологического устройства общества. Ясно и то, что другие пути исторического развития не берутся в расчет. Завершена лишь некая часть, но Фукуяма стремится придать ей вид завершения целого. Ошибка налицо: pars pro toto, часть вместо целого. Мы видим: чтобы придать своим текстам апокалиптический смысл, их авторы готовы использовать любой повод. Любые изменения в характере истории, любые кризисы годятся для фабрикации сюжетов конца света.
Если для Шпенглера закат Европы был очевиден, то Фукуяма связывает конец истории с торжеством Европы как универсальной формы социального устройства. То есть, по Фукуяме, конец истории связан с торжеством того, чему Шпенглер предсказывал неизбежную гибель.
Выбор критериев конца света абсолютно произволен. На самом деле, предсказание конца света неизбежно демонстрирует ясновидческие способности автора. Предсказывать благополучие – бессмысленно и малоинтересно. Лишь предсказывая тотально-ужасное, можно рассчитывать на привлекательный статус пророка.
Нам важно понять здесь не то, как апокалиптические тексты соотносятся с реальностью, а в чем интерес тех, кто производит такие тексты. Ведь если мы имеем дело с явной избыточностью, то, понятно, связано это не только с духом времени. Есть, похоже, определенный соблазн для автора, возводящего такие конструкции. Не поняв, в чем здесь авторский интерес, мы не сможем ни проанализировать этот феномен, ни выработать иммунитета ко всему этому, а он нам очень нужен. Постоянно сталкиваясь с многочисленными предсказаниями конца света, мы, конечно, хотели бы не отвечать на это реакцией страха – нам необходим трезвый критический взгляд.
Используется любой повод
Особый род «концесветных» сюжетов связан с экологическим знанием. Развитие наук о природе в ХХ веке многократно увеличило количество апокалиптических страхов. Мы все наслышаны об ухудшении экологической ситуации, исчезновении множества видов животных и растений. Нам твердят об истощении природных ресурсов, озонового слоя в атмосфере, парниковом эффекте. Сокращение площади лесов и плодородной почвы, автомобильные газовые выхлопы и обмеление рек – всё это преподносится как смертельная угроза нашей среде обитания, похоже, самая правдоподобная со времен Откровения Иоанна. Экологи предсказывают глобальный катаклизм. Такого рода предикции выглядят наиболее привлекательно и вызывают наименьшее сопротивление со стороны публики. «Природа» выглядит чем-то «материнским» и одновременно беззащитным. Эти два обстоятельства придают ей очень большую аффективную ценность и существенно повышают акции «зеленых».
Количество социально-исторических прототипов апокалипсиса неуклонно растет, предоставляя всё больше наглядного материала для провозвестников конца света. В незапамятные времена его прообразом могла послужить массовая эпидемия чумы или холеры. За удачный в этом смысле прототип могли сойти и природные катаклизмы, землетрясения и наводнения.
Намного большую ценность в этом смысле представляют собой разного рода войны. У войн и погромов есть автор. Творятся они не слепой природой. В дидактически-пропагандистском смысле наличие автора разрушительного действия или разрушительной тенденции – очень важно.
Особенно полезным для формирования широкого контекста апокалиптического сознания оказался ХХ век.
Политическая история века, начавшаяся с «воспитания под Верденом», продолжилась российской революцией, истреблением турками армян, и достигла своих вершин в Хиросиме, ГУЛАГЕ и Освенциме. В результате всего этого ХХ век дал нам много апокалиптических метафор. Любая мало-мальски массовая потеря становится поводом для диагностики и предикции апокалипсиса. Сегодня авторы параапокалиптических текстов с радостью могут привести в пример «маловерам» ГУЛАГ и Освенцим, Хиросиму и Чернобыль. Распространение оружия массового уничтожения, как и угроза массовых эпидемий (СПИД, куриный грипп, лихорадка Эбола), повышает курс их акций многократно.
Апокалиптический миф ХХ века подкармливается и всячески углубляется таким сильным орудием, как СМИ. Рост информационного потока привел к многократному умножению объема фиксируемых катастроф в индивидуальном и общественном сознании. Как известно, благополучные обстоятельства жизни народов отнюдь не являются так называемым «информационным поводом». Телевидение и газеты живут сводками о разного рода катаклизмах, авариях, преступлениях…
История одного циркуляра
Сюжеты о конце света (истории, культуры, ее части…) неизбежно отсылают нас к опорному тексту – Откровению Св. Иоанна Богослова, к Апокалипсису как таковому.
Этот текст был составлен Иоанном, как принято считать, на острове Патмос в 90–95 годах, в царствование римского императора Домициана и адресован семи малоазиатским (Асийским) церквам. Что же стало поводом к этому посланию?
В церквах – явная тенденция к духовному падению. Одни поддаются влиянию безнравственной среды. Другие соблазняются лжеучениями, склонны к ереси. Большинству церквей необходимо покаяться, и по крайней мере в одной церкви – Лаодикийской – материальное благополучие привело к такому духовному падению, что заставило ее отвернуться от Господа. Послание наполнено яркими образами, призванными устрашить тех, кто слаб в вере и упорен в грехе, и подбодрить тех, кто беззаветно верит. Им на Страшном суде уготована благая участь, в отличие от грешников, а после разрушения «Вавилона» наступит тысячелетнее царство Христово, где истинно верующие пребудут в блаженстве и во спасении. Если говорить очень кратко, то смысл послания по сути сводится к этому.
Собственно, значение слова «апокалипсис» – откровение. Почему же так произошло, что в наше время «апокалипсис» читается почти исключительно как «конец света» или что-то к нему очень близкое? Ответ – в самом тексте послания. Оно так насыщено устрашающими образами, что получается: они и сформировали эмоциональный образ текста, их избыток сказался на репутации откровения. Видения зверя и «блудницы», картины казней и битв в итоге увязываются с образом «Откровения» прочней, чем видения поклонения и великолепие нового Иерусалима.
В самом деле, образы очень яркие:
«7. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. 8. Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью. 9. И умерла третья часть одушевленных тварей живущих в море, и третья часть судов погибла» (Откр. Св. Иоанна, 8).
В следующей главе: «3. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. 4. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. 5. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев. И мучение от нея подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. 6. В те дни люди будут смерти искать, но не найдут ея; пожелают умереть, но смерть убежит от них». (Откр. Св. Иоанна, 9).
В итоге эффект устрашения оказался для культурной памяти более весомым, чем яркие картины блаженства и спасения для праведников.
Хорошо известно, что судьба «Откровения» Иоанна среди других текстов Библии была непростой. До начала Реформации эта книга была изгнана из корпуса Священного Писания. Избыточность картин жестокости в пространстве этого текста не могла не быть замеченной. С другой стороны, не случайно было и новое его признание. Страх с пропагандистской точки зрения – оружие куда более сильное, чем поощрение. Кроме того, всякая религия как тотальная мировоззренческая конструкция неизбежно должна содержать в своей структуре и садистический локус.
Сюжет конца света как диалог
Апокалиптические картины – некое послание. Как у всякого послания, у них есть автор и адресат: апокалиптизирующий и апокалиптизируемый. Апокалиптизирующие, а они всегда в меньшинстве, запугивают апокалиптизируемых. Последовательно и целенаправленно индуцируют страх с тем, чтобы добиться от них важных мировоззренческих и поведенческих изменений. Итак, три главных элемента такого дискурса: индукция страха, шантаж и рекрутирование. «Под дулом» апокалиптической угрозы можно требовать самых радикальных перемен и исполнения самых интересных желаний.
Индукция страха здесь – ключевой момент. Бывают ситуации, когда жертва осмысленна, приносится ради высоких целей, и тогда героическая смерть желанна. Сюжет «Конца света» лишает смысла любую жертву, любую смерть. Смерть здесь – не этап в жизненном цикле, она радикально предельна. В этой ситуации шантаж и рекрутирование выглядят максимально эффективными. С другой стороны, пропагандистский эффект снижается вследствие нереальности рисуемых перспектив, а также вполне понятного сопротивления таким перспективам.
По отношению к тому, насколько реальны провозглашаемые угрозы, участников такого диалога можно разделить на проапокалиптиков и контраапокалиптиков. Ясно, что апокалиптизирующий всегда – проапокалиптик, и его задача, собственно, в том, чтобы из апокалиптизируемого сделать такого же, как он, проапокалиптика. Апокалиптизируемый изначально нейтрален, но, конечно, настроен он скорее антиапокалиптически. Психологически понятно сопротивление предсказаниям о том, что конец света вот-вот грянет и надо предпринимать какие-то движения по этому поводу. Это сопротивление усложняет основную прагматическую задачу апокалиптического дискурса. Всякому ясно: конец света провозглашается в целях изменения поведения, мировоззрения и тому подобное у адресатов апокалиптического послания. Делается это при отсутствии реальных способов принуждения к таким изменениям.
Проапокалиптический дискурс выглядит чаще всего предельно убедительно. Коммуникативная ситуация неизбежно складывается в пользу проапокалиптика. Ясновидящий, осведомленный, радикальный и при этом умудренный проапокалиптик противостоит наивному, слепому, при этом грешному и праздному контрапокалиптику.
Очень привлекательно смотрятся алармистски-рекрутирующие стратегии: сейчас или никогда; если ты не занимаешься политикой, то она займется тобой; кто не с нами, тот против нас; пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Можно, по сути, говорить о существовании апокалиптического бессознательного. В его основе у апокалиптизируемого – страх, заставляющий того встраиваться в дискурс послания. Страх этот всячески разжигается с вполне понятной целью. Мистическое сознание – всюду.
Убийство новизны
Апокалиптические мотивы вступают в противоречие с одной из важнейших мотиваций личности – стремлением к новизне, кайнэрастией, чему я посвятил несколько исследований. Собственно, конец света – там, где больше нет ничего нового. Поэтому в культурах с большим разнообразием форм культурного творчества есть особый риск возникновения апокалиптического сознания. Этот риск связан с ощущением исчерпанности форм и сюжетов для производства новых творений культуры (в первую очередь – искусства). ХХ век сыграл здесь драматическую роль. Сверхизобилие творческой продукции привело многих к ощущению кризиса новизны, а то и просто ее невозможности. В ХХ веке, создавая новое творение, художник порождал при этом новый способ производства этих творений. При исключительном обилии художественной продукции со временем возникло ощущение перепроизводства новых форм. Сама по себе новизна стала невозможной или невостребованной.
Но здесь встает вопрос о новизне как таковой. Что такое «новое»? Какова мера отличия одного творения от другого, чтобы мы могли зафиксировать новизну? До какой степени фиксация сходства должна убеждать нас в дефиците новизны? Ответив на эти вопросы, мы, скорее всего, придем к интересным выводам. Мы обнаружим, что известия о «смерти новизны» окажутся преувеличенными, что они, собственно, лишь очередная редакция «концесветных» сюжетов. Ну и, конечно, у их авторов есть веские причины заботиться о своем реноме радикальных критиков культуры и ее бескомпромиссных судей.
Быть культурным героем
Быть героем – это, в первую очередь, возбуждать эмоции. Вне аффекта нет героизма. Страх конца света – предельный страх, сильнее ничего не придумаешь. Он яркий и мощный. Страх – один из сильных аффектов, а аффект – всегда востребованный товар в символическом пространстве.
Поэтому он так хорошо продается в философии, в кинематографе, в литературе. Сегодня культура дает обилие таких примеров. В этом ряду – крупнейший современный прозаик Владимир Сорокин (трилогия «Путь Бро», «Лед», «23 тысячи»), одна из самых ярких современных арт-групп АЕS + F (Т. Арзамасова, Л. Евзович, Е. Святский, В. Фридкес, их видеоартпроект «Пир Трималхиона»). Они не мыслят свою работу вне эсхатологического контекста. Создается впечатление, что апокалипсис создает масштаб для актуального художника. Создавать нечто такое, что не ставит на карту судьбы мира – по меньшей мере несовременно. Вспоминается расхожий термин советской художественной критики: «мелкотемье». Если в советское время от художника требовали показа масштабных свершений советских строек, то теперь требуется учет близкой возможности конца культуры, цивилизации, мира вообще.
Оптимистический скептицизм
Но все эти соображения, думаю, должны поставить крест на реальности апокалиптических предсказаний. Они слишком привязаны к интересу их автора, что само по себе вызывает много сомнений по поводу того, что конец света (культуры, какой-то ее части) так реален, как они это пытаются представить. Автор создает себе особое реноме и незаурядный статус бескомпромиссного и прозорливого пророка. Он осуществляет особую политику формирования своей привлекательности и рекрутирования последователей. Но, рассматривая всю эту апокалиптику под таким углом зрения, мы ясно видим всю ее иллюзорность. Она выступает как привлекательное пугало. Разумнее всего воспринимать это именно так. Ничего этого не надо бояться. Покончим с концом света.
* М. Ахметова. Конец света в одной отдельно взятой стране. М.: ОГИ, РГГУ, 2010.