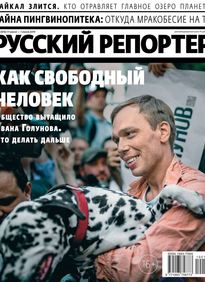Донбасс при невероятном энтузиазме и стечении тысяч людей отметил День Победы, а 11 мая — годовщину республик ДНР и ЛНР. Локальные перестрелки продолжаются, но перемирие в целом живо, более того, есть прогресс на переговорах с Украиной. Это мы можем знать по новостям, но в самом Донбассе видно, что до мира еще очень далеко. В праздничные дни корреспондент «РР» искала пропавших без вести. Ополченца, который мог быть похищен еще не призванными к единому республиканскому порядку отрядами «своих же»; украинских солдат, пропавших в «котле»; печатала для праздничного шествия портрет офицера Красной Армии, пропавшего без вести в 1941 году
Заняв очередь, Оксана выходит на крыльцо морга. Она — последняя после двух молодых мужчин, пяти женщин, одного старика и одного ополченца. Из-за закрытой двери пахнет разложением. Эта тихая часть калининской больницы утопает в свежей зелени и одуванчиках.
Оксана закуривает тонкую сигарету. Прячет глаза, в которые набегают слезы. Холодный ветер дует ей в спину, закрытую тонким пиджаком. Она ждет полчаса на крыльце. Дверь постепенно выпускает женщин, мужчину, ополченца. На крыльцо выходит старик в бежевой ветровке, заляпанных грязью светлых вельветовых брюках, носках и резиновых тапках. Тоже закурив, заводит разговор с Оксаной — зачем-то рассказывает похабные анекдоты.
— Он, племянник мой Коля, инвалид с детства. Пропал первого мая, — продолжает дед, закончив очередной анекдот. — Пришел я к дому правительства. «Батя, пишите заявление о пропаже». — «Вам?». — «Не-не, по месту жительства». — «Ясно». — «Батя, утром приходите. Батя, сначала в морг сходите, там есть один неизвестный с бородой. Его посмотрите. Не опознаете — снова к нам».
Дверь открывается, коридор покидает последний посетитель. «Слава богу», — себе под нос говорит он. Оксана и старик заходят внутрь.
— Сейчас моя очередь! — обгоняет ее он. — Мне бы неизвестных посмотреть, — обращается в закуток регистратуры, где за столом сидит женщина с рыжими волосами. — Там есть у вас один, сказали, с бородой…
Женщина поднимается и, заложив руки в карманы белого халата, не спеша идет в соседнюю комнату. Старик, прижав к ноге облезлый пакет, суетится за ней. Наклонившись к компьютеру, та щелкает мышкой. Дед вперяется в экран.
— Не он! — победно восклицает он. — Не он!… Ф-ф-у-у-у. Слава богу.
Он спешит по коридору к двери, и когда та распахивается, а он оказывается на пороге, освещенный дневным светом, видно, что его плечи расслабились. Рыжая женщина оборачивается к Оксане.
— Александр Шавалаев, — говорит Оксана. — Пропал 27 апреля. Он из «Оплота», ополченец. Мой племянник.
Женщина открывает толстую тетрадь и водит пальцем по строчкам, записанным от руки. Оксана замирает.
— Такого у нас нет, — говорит женщина.
— Мне сказали, что вам привезли тела неизвестных. Можно на них посмотреть?
— У нас их сегодня пять, — женщина встает и провожает Оксану к тому же компьютеру.
Щелкает мышка. На экране возникает мертвый лысый мужчина. Рыжая щелкает мышкой еще раз, и его лицо увеличивается, показывая вывернутый голубой глаз.
— Нет, — выдыхает Оксана.
Щелк. Теперь на экране — плотный мужчина с губами распухшими так, словно перед смертью его укусил шмель. На лице свежие красные ссадины от ударов, какие могут оставить подошвы мужских ботинок.
— Нет…
Щелк. У бородатого по всему лицу проходит черная трещина, разделяющая два мутных глаза.
— Нет!.. Нет. Нет… Слава богу. Слава богу!
— Это хорошо, когда люди говорят «Слава богу», — отзывается рыжая, выпрямляясь и засовывая руки в карманы. — Чаще мне приходится слышать другое.
Междоусобица
Оксана садится в машину, закуривает, открывает окошко и выпускает дым туда. «Тю-тю, тю-тю, тю-тю», — в свежей листве поют птицы. Подальше от двери морга пахнет сиренью.
— Я очень уважаю своего племянника за решение пойти в ополчение, — говорит она. — У него позиция была — либо идти и оставаться там до конца, либо не идти вообще. Многие его товарищи шли, не выдерживали и уходили. А он, начав с рядового, недавно получил сержанта. Его позывной — Шала. Служил в спецподразделении «Оплот».
Двадцать шестого апреля племяннику дали увольнительную — в связи с днем рождения и получением звания. Он праздновал с друзьями. На следующий день утром пошел на кладбище к дедушке, покрасил крест. В семь вечера у него должна была закончиться увольнительная, но по каким-то причинам он опоздал вернуться. В последний раз выходил на связь со своим командиром Глебом около двадцати трех часов. Сказал, что находится рядом с расположением. Это в Донецке. И пропал.
— Я была в военной полиции, это СБУ. Там сказали писать заявление о пропаже. А я не совсем понимаю, почему я должна это делать, а не его командир. «Оплот» своего бойца не ищет. Кажется, они сразу забыли, что такой у них служил. В военной полиции мне сказали, что его могли захватить казаки — их часть рядом с расположением «Оплота». Сказали, что казаки ведут себя не совсем адекватно. Они могут захватить человека, держать его у себя месяц, вымотать нервы родным, а когда те будут готовы на все, попросить выкуп. Они меня предупредили, что ни в коем случае ни на какие выкупы соглашаться нельзя. После выплаты человека не оставляют в живых… Я пошла к казакам. Глеб категорически не советовал мне к ним ходить, сказал — они очень агрессивные. Но я пошла. Меня там приняли нормально. Вышел их командир, представился Евгением, сказал, что сделает все возможное. Сказал, что у них на территории содержатся задержанные. Обещал их показать или хотя бы узнать, там ли Саша. Может, они его задержали за то, что он выпивший был? Они задерживают пьяных. Может, он начал удостоверением «Оплота» размахивать… У моего племянника есть такое — он гордится «Оплотом», считает, что лучше «оплотовцев» никого нет… Но Евгений не успел мне помочь или не захотел. Я ему звонила, но он не отвечал. Глеб сказал: «Больше туда не звоните. Сейчас им не до вас. Казаков сейчас разоружают». Тут есть еще одна казачья часть — в Буденновском районе. Но туда страшно ходить. Там — поле, ставок, чуть дальше — кладбище. Они там могут обстреливать приближающиеся машины. Казаки сейчас агрессивно настроены и всего боятся. С неделю назад там был небольшой бой. Я из собственной квартиры слышала. Но сразу Басурин сделал заявление, что военные не имеют никакого отношения к разоружению казаков, эту операцию проводит полиция… У меня сейчас не то, что обида на ДНР… У меня теперь двоякое отношения, я теперь не знаю — кто наш, а кто не наш. Я начинаю сомневаться во всем. Я с самого начала считала, что ДНР — это хорошо. Я и по-прежнему так считаю. Но междоусобные войны внутри ополчения сильно подрывают веру людей. Вера сильно начинает колебаться. Я считаю, что в данный момент не должно быть места междоусобице.
Оксана выезжает с территории больницы. Машина движется к центру города. Донецк готовится к празднованию Дня Победы — центр города перекрыт, с площади Ленина доносится шум генеральной репетиции. На ветру колеблются распустившиеся красные тюльпаны. Машина проезжает мимо билборда «Кто делает добро, тот от Бога». Постеры со схожим содержанием, включая цитаты из Библии, сегодня красуются по всему Донецку.
У казаков
Недавно к «Русскому репортеру» обратились матери пропавших украинских солдат-добровольцев, пропавших в Иловайском котле девять месяцев назад. Последнее, что о них было известно, — они звонили и говорили, что находятся между городами Свердловск и Краснодон Луганской области. С тех пор вестей от них не было. Комендатура Свердловска занята казаками. Возможно, они знают что-то о пропавших украинцах.
— Девушка, шо? — толкает меня под локоть высокий мужчина в гражданском. От него пахнет спиртным. — Давайте, включайте камеру, записывайте этот беспредел!
Перед воротами комендатуры Свердловска — два вооруженных охранника.
— Дайте справку! — наступает на них мужчина. — Вы шо? Да я тут не боюсь никого! Развели тут говно! — он выдает в адрес охранников порцию мата. Топает ногами. Отходит. Возвращается. — Мне голову проломили, — он наклоняется и показывает окровавленное темя с содранной кожей под короткими темными волосами. — Мне в больнице сказали в комендатуру идти, справку взять. Я тут никого не боюсь! — выкрикивает он.
Начинается дождь. Тяжелеющие капли падают на его ободранное темя. К воротам приближается девушка в светло-розовых спортивных штанах и куртке. Она раскрывает перед охранниками пакет, в котором оказываются еда и сигареты. Один забирает пакет и уходит.
— Заходите, — приглашает меня охранник через полчаса ожидания под дождем.
У генерала казачьих войск, командующего юго-восточным направлением, позывной Рим. По-граждански его зовут Александр Петрович. Он сидит за столом в окружении казаков. Напротив него — Гусар, мужчина с украинским лицом и пышными усами. На столе нож, которым только что резали хлеб, тарелка с ломтями того же хлеба, пакет сока. Комната плотно заполнена сигаретным дымом. На стене — красно-желто-голубой флаг. На синей его полосе белые буквы — «С нами Бог», на красной — «За Веру, Дон и Отечество». К уголку флага приколота глянцевая фотография, на которой Рим стоит рядом с патриархом Кириллом. Над флагом — большой портрет Путина в галстуке, а сбоку от него — икона.
— Я ищу украинских пленных по просьбе матерей, — начинаю я, обращаясь к Риму. — Они были в Иловайском котле. Уже девять месяцев от них нет вестей. Им — по восемнадцать, девятнадцать лет.
— У нас тут нет никаких украинских пленных, — отвечает тот. — В августе мы отсюда вывели через Гуковскую таможню четыреста тридцать восемь человек, а еще сорок три — через Изваринскую таможню. Нам некуда было этих пленных девать, и мы их просто переправили на территорию Российской Федерации. А оттуда их отправили назад на Украину.
— Матери вам написали письмо, — я открываю компьютер.
— Мне?! — удивляется Рим. Приглаживает короткую седоватую челку. Приникает к экрану. Читает. — Только знаете что… — прочитав, произносит он, — они сами сюда приехали на танках, БМП и БТР. Их же сюда не звали… Они из девяносто третьей. У нас таких не было.
— У нас были из семьдесят второй, — говорит Гусар. — Из пятьдесят первой. Из двадцать пятой десантники были. Вам надо искать их в Старобешево, а это — Донецкая область… Герман… Ярослав, — снова наклоняется к компьютеру. — Ну-ка дайте еще раз посмотрю списочек. Не-е-ет, с такими именами у нас не было. Иловайский котел — это Донецкая область. Здесь у нас в котле было три тысячи человек. Мы вывели около пятисот. Еще пятьсот успели сами рассосаться по коридору. А остальные где-то зарыты. В смысле, кто их убивал?! Мы их убивали! Мы! Они пришли на танках на нашу землю. А вот закапывали убитых и тяжело-раненых уже свои. Мы только приблизительно знаем, где эти захоронения, и скоро будем заниматься раскопками.
— Дайте я еще раз посмотрю, — Гусар встает, подходит к компьютеру Рима. Щелкает мышкой, листая списки августовских пленных. — Ярослава точно не было… Я многим мамам звонил, но ваши мне не попадались.
— Я тут кое-что собираю, — Рим поднимается из-за стола и берет с полки кипу нашивок. Раскладывает их на столе. — Видите, это — прикордонная служба ихняя, седьмая мотоманевренная группа спецназа, с которой наши шахтерики имели честь воевать. Снимал ли я их с мертвых?! Да вы шо?! Еще скажите, что я расписывался на сапоге убитого укропа… — со стола падает нашивка с желто-голубой полоской, на которой сверху написано «УкраÏна». — Ну конечно, она упадет — Украина, — говорит Рим. — Упадет, никуда не денется.
На столе — двенадцать нашивок. На одной из них распускается зеленый укроп, а сверху так и вышито зелеными буквами — «Укроп». На другой — трезубец. На третьей — архангел и девиз — «Краще смерть нiж безчестя».
— Вы — казаки? — спрашиваю я.
— Да вроде, так — отвечает Рим. — Знаете, почему мы тех пленных отпустили? По политическим мотивам — Россия нас попросила. А так расстреляли бы. А знаете почему? Через полтора месяца я нашел своих бойцов, которых они взяли в плен. Это были первые пленные. Я думал, их отправят на Украину. Но нет, они их пытали. Руки и челюсти у них были поломаны, черепа — пробиты. Потом под них поло-жили гранаты и взорвали, как собак.
Воспитание нагайкой
— Вы воевали в Афганистане. Это не первая для вас война. Вы считаете, что конкретные пленники, находившиеся у вас, виноваты в том, что делали другие с вашими людьми?
— Да. Виноваты. Они виноваты в том, что они сюда вообще пришли. Я повторяю, если бы я своих людей нашел раньше, из тех пленных я расстрелял бы каждого третьего.
— Ты имеешь в виду — убил в бою, — поправляет его Гусар.
— Да нет! — выкрикивает Рим. — Я бы так расстрелял их! Я еще раз повторяю — рас-стре-лял бы!
— Ну, хорошо, — соглашается Гусар, тоном давая понять, что спорить не собирается. — Расстрелял бы и расстрелял.
— А половину бы заставил пахать тут! А как мне делать?! Если я своих людей нахожу в таком состоянии! Они их просто взяли и взорвали!.. И я никому не желаю побывать на моем месте!
— Все командиры говорят, что не хотели бы находиться на своем месте, но тем не менее они на нем почему-то находятся, — произношу я.
— Просто так фишка легла. Нужно было брать ответственность на себя.
— Не мы выбираем свой путь, а путь выбирает нас — Экзюпери, — вставляет Гусар.
— В Донецке разоружают казачьи части, — говорю я. — Выстраивается централизованное управление. Казаки — в меньшинстве и гонимы. Это так?
— Ну, где-то так, — отвечает Рим. — Но мы не сдаемся… У нас сегодня с передовой привезли двух трехсотых. И обстрелы ВСУ продолжаются каждый день и по три раза на день.
— Сейчас идет позиционная война, — говорит Гусар. — Это когда противоборствующие стороны окопаны на своих позициях. Выполняют рейды посредством диверсионных групп. А также ведут огневые контакты при использовании различного вида оружия, в том числе и тяжелого.
— Говорят, что казачество ведет себя не очень хорошо. Это так? — спрашиваю я.
— Это вранье самое настоящее.
— Что казаки воруют людей и требуют за них выкуп.
— Бред!
— В головенку каждому не залезешь, — произносит Гусар. — Если какая-то падла… то есть нехорошая людина кого-то украла… Ну, бывает у нас такое. Но это — не закономерность. И такое не только в казачьих войсках практикуется, но и в других подразделениях — еще больше.
— А что вас ждет после войны?
— Откуда ж я знаю, — отвечает Рим. — Мирная жизнь. А почему бы и нет?
— Опыт гражданских войн говорит о том, что обычно командиров не отпускают.
— В смысле? Стреляют-сажают? В жизни всякое бывает. Посмотрим.
— Мы — уже почти в России, — говорит Гусар. — Поэтому по российской традиции от сумы и от тюрьмы не зарекаемся.
— А если российские чиновники нас будут воспринимать как чужеродный элемент, то пусть тогда весь Донбасс воспринимают как чужеродный элемент, — говорит Рим. — У меня бойцы стоят на передке. Понимаете?
— Вы хотите сказать, что пока есть передок, нужны и вы? Вас руководство республики не разоружит и не ликвидирует?
— А мы посмотрим. После войны мы пойдем сады опрыскивать, бизнесом заниматься. Почему нет? Людей мы не воруем, невинных не расстреливаем. Я — депутат горсовета местного. Перед войной должен был стать нардепом. Вы знаете, кто такой нардеп? Это — то же самое, что депутат Госдумы. Я шел по спискам от коммунистической партии. Какие политические амбиции?! Вы о чем? Коррупция при Януковиче?! Вы знаете, я же в последнее время общаюсь с вашими российскими чиновниками. У вас коррупции в десять раз больше. Ха-ха-ха! — смеется он. Смеется Гусар. Весело смеются присутствующие казаки. — Поэтому не путайте мои амбиции с правдолюбием.
— Насколько велико ваше подразделение?
— Оно — велико, — отвечает Рим.
— Данные о личном составе — военная тайна, — вставляет Гусар.
— У нас тут и русские добровольцы есть. Разницу знаете между добровольцем и наемником? Их процентов пятнадцать от личного состава. У нас тут — мини Советский Союз. То есть представлены все национальности бывшего Союза. У меня, например, родители — из Западной Украины. Вот у Паши, — показывает на сидящего в углу казака, — тоже родня на Западной Украине.
— Значит, сейчас у вас пленных вообще нет?
— Нет.
— А я видела, как только что девушка приносила передачу.
— Так это задержанные — алкоголики, мародеры, дебоширы. Те, которые уже не служат, но стреляют из автоматов. Мы их ловим, отнимаем у них оружие. Знаете, как у нас говорят? «Каждый уважающий себя сепаратист-террорист должен иметь при себе как минимум десяток гранат и пару автоматов». Конечно, они создают напряг, и мы решаем эти проблемы. Если они никого не застрелили, мы даем им нагайкой, как положено. Нет, я не шучу! С чего вы взяли, что я шучу?! Отвечаю — даем нагайкой. У нас даже фильм есть, где мы нагайкой бьем. Его транслировали на канале «Россия 24». Хотите посмотреть? Нет? Как, для чего бьем? А воспитание.
— Битье определяет сознание, — произносит Гусар.
— Через жопу быстрее к голове доходит, — вставляет Павел.
— Нагайка — это такая кодировка, — говорит Рим. — Что вы называете насилием?! Какое насилие может быть на войне, объясните мне! У нас нету сейчас законодательных органов. Ми-ли-ци-я? Ха-ха-ха! Милиция — это те люди, которые отсиживались в тылу. Они, как и вы, в принципе боятся насилия. И когда перед ними стоит человек в военной форме и с автоматом, они хорошо понимают, что он может свое оружие применить. И они сильно-сильно его автомата боятся. Состояние у нашей милиции сейчас такое — психологическое… А ваших пленных, не знаю где искать. Один пленный мальчик рассказывал, что приехали гражданские, раскопали яму, потом всех туда засыпали. Говорит, рядом красная гора была. А у нас тут этих терриконов… До сих пор лисы руки и головы носят.
— Нам просто не нужны пленные живые, — говорит Гусар. — Мы их отдаем. Их надо кормить, одевать.
— А у нас нет такого человеколюбия, — заканчивает Рим.
Провожая меня, он говорит, что выбрал себе такой позывной потому, что все дороги ведут в Рим. По дороге назад встречается билборд «Любая демократия приводит к диктатуре подонков. Альфред Нобель».
Бессмертный полк в Донецке
Рассеянные тучи висят над парком Ленинского комсомола в Донецке. На широких газонах зеленеет трава. Шелестит свежая зелень, еще не успевшая впитать угольную пыль. Шумят флаги в руках собравшихся. Черно-белые лица с портретов «Бессмертного полка» собирают мелкие капли дождя. Темный солдатский монумент острием знамени уходит в серое небо. В широкой толпе собравшихся мелькают красные пилотки, георгиевские ленты.
Галина Михайловна прижимает к груди портрет отца — Дроздова Михаила Григорьевича, старшего политрука.
— Нам пришло извещение, — говорит она, обращаясь к Оксане. — Но я все равно в сорок пятом ждала его с войны. Целыми днями сидела у окна и вглядывалась в лица возвращавшихся. Потом соседка сказала матери: «Ты ребенка оттуда убери, а то сойдет с ума». Мне приснился сон, что он идет ко мне через высокую золотую рожь. Я верила в то, что он жив, и продолжала ждать. А в семидесятых годах мне приснился другой сон — он повис на колючей проволоке и смотрит перед собой мутными глазами. Тогда я поняла, что его больше нет. Но вы знаете, я ведь до сих пор живу в той войне.
— У меня пропал племянник-ополченец, — глаза Оксаны наполняются слезами, она моргает длинными ресницами, прогоняя слезы и не давая им потечь. — И я не знаю, что лучше, — ждать его всю жизнь или иметь могилку, на которой можно его оплакать.
Празднование Дня Победы перемещается на площадь Ленина.
— Сейчас будет выпущен этот водяной снаряд, — подняв лицо к небу, говорит Галина Михайловна, показывая на тяжелую тучу, нависшую над площадью.
Сразу же начинается тяжелый частый дождь. Она прячет портрет отца в пакет. Открывает зонт. Тонкое платье Оксаны намокает и прилипает к телу. Длинные светлые волосы собирают дождь. Люди, сомкнув ряды, замыкают с обеих сторон технику, которая вот-вот начнет движение по площади. Оксана поднимается на цыпочки, но через толпу можно разглядеть только дула и башни танков. Гордый и торжественный профиль Гиви, который высунувшись из люка, открывает парад.
— Почему «Сомали» открывает парад, а не «Восток», находящийся на передовой? — спрашивает в толпе кто-то.
Гиви поворачивается к собравшимся и улыбается.
— Я горжусь своим племянником, — произносит Оксана, — и думаю, что буду еще много раз им гордиться. Я чувствую, что еще не все сделала для него. Я буду прорываться к господину Захарченко. «Оплот» находится под его руководством. Не знаю, как теперь его называть в нашей народной республике, — товарищ или господин.
Танки пошли. Им кричат «Ура». Оксана снова поднимается на цыпочки. Галина Михайловна закрывает ее зонтом.