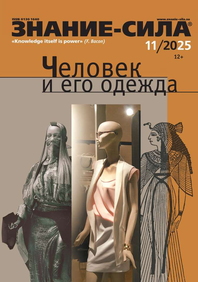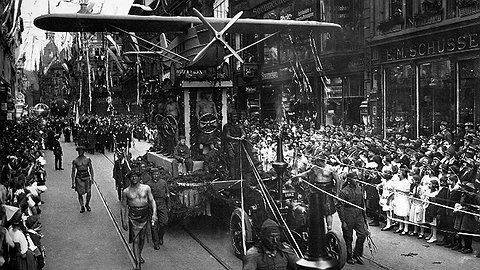ТОП 10 лучших статей российской прессы за Nov. 10, 2015
Голосами вещей
Автор: Ольга Балла. Знание-сила
Упорство замысла: соблазнять и создавать
«Мечи и боевые топоры, кремневые пистолеты и алебарды, медали, ордена и прочие регалии; латышский стрелок при параде сидит в блиндаже с полевым телефоном, другой латышский стрелок в маскхалате залег за пулеметом Максима…» Такие познавательные радости обещает своим посетителям, устами путеводителя, Военный музей Риги. «История Таллина, – обещает свое Городской музей еще одной балтийской столицы, – здесь рассказана в непринужденной манере – при помощи макетов, инсталляций, частных фотоальбомов (можно листать), подвижных манекенов (можно дергать), портретов королей и послевоенных агитплакатов, под крики чаек или иной подходящий звукоряд.» А вот – совсем в другом роде. «Восстановленный с нуля дворцовый комплекс Нижнего замка, – рассказывает нам о себе вильнюсский Дворец великих князей литовских, – превращен в музей самого себя. <…> Все детали, которые можно было реконструировать по археологическим находкам – изразцы, плитки, фрагменты резьбы по камню и дереву, – воссозданы в прежнем виде…» Ага. Значит, предметов уже нет – но их бессмертная душа создала себе новое тело по образу и подобию прежнего.
А вы никогда не задавались вопросом, зачем вообще все эти оставшиеся от прошлого разности надо собирать под одной крышей? – а те, что, по несчастью, не сохранились в первоначальном (или вовсе ни в каком) виде, – реконструировать и сводить с сохранившимися под той же крышей? И с каких пор стало чувствоваться, что это надо? И как совместить очень понятное вообще-то желание сберегать вещи, вышедшие из оборота, от разрушения и забвения (противостояние небытию, в конце концов, – одна из существенных потребностей человека, если не самая существенная) с неминуемым пониманием того, что никакое хранилище не безгранично и, значит, хранимое приходится как-то отбирать?
А еще бывают музеи под открытым небом – как Рокка-аль-маре в Таллине, куда свезли настоящие дома из всех районов Эстонии и разных ее времен – с XVIII по крайней мере века до ХХ-го, куда можно заходить, трогать все руками, вдыхать запахи, сохранившиеся от прежних жизней этих зданий и вещей (в домах, топившихся по-черному, до сих пор – а ведь прошли десятилетия! – пахнет копотью), вживаться в чужой – теперь не такой уж и чужой – чувственный опыт, воображать себя местным жителем… А бывают музеи и такие, в которых можно – пуще того, необходимо, для того и строились! – просто жить, не отличая их от так называемой реальности. Таков варшавский Старый город, весь целиком погибший под бомбежками Второй мировой и воссозданный за три десятка лет заново с пугающей точностью, – там действительно живут и работают люди, словно и не было небытия. Что же здесь музейного, спросите вы? – Сама идея максимальной точности воссоздания утраченного. Сама интуиция его безусловной ценности.
В какой бы музей мы ни заглянули – художественный или естественноисторический, технический или краеведческий, мемориальный ли музей выдающейся личности, музей ли пыточных орудий, водки, мыши, городского освещения, – всякий раз, в любом облике, это окажется такое пространство, в котором происходит особенное действие: соблазнение человека прошлым.
Собственно, не только прошлым – а если хорошо вдуматься, даже и не в первую очередь им. Понятно же, что на языке предметов, оставшихся от иных времен, в музее всегда идет речь исключительно об одном: о настоящем. О том, как оно видит себя и мир (всякий музей, чему бы ни был посвящен, по сути дела – не что иное, как модель мира, спроецированная на определенный материал). Ну, разве еще о том, каким этому настоящему хочется видеть собственное будущее. «Вот, – говорит настоящее, предъявляя посетителю все эти мечи и боевые топоры, – какие у меня неопровержимые обоснования и глубокие корни! Видите этот путь, который привел ко мне? Понимаете его логику? (Если вдруг не понимаете – проследите, не поленитесь, еще раз последовательность, в которой выстроена музейная экспозиция.) Предметы-очевидцы лгать не умеют. Это же все правда, ее можно увидеть глазами, услышать ушами, пощупать руками. Как же после этого вы можете сомневаться в моей правоте?!»
Впрочем, если слово «прошлым» понимать в инструментальном смысле – всё правильно. Музей – это такое место, где прошлое – увиденное, как верит наивный посетитель, во плоти (так вот как, значит, это было на самом деле!..) – становится орудием соблазна. Средством убеждения посетителя (а в современных интерактивных музеях – уже и активного пользователя) в правоте и обоснованности ныне действующего настоящего, его версии прошлого и его проектов будущего.
Музей – одно из мощнейших средств, формирующих человека, делающих его членом той или иной символической общности (политической, этнической, культурной…). В таком понимании идея музея – характерно европейская, прямо вытекающая из самого существа европейской культуры, из ее коренных принципов. И, разумеется, возникла она не сразу, но прошла в своем созревании несколько этапов, на каждом из них впитывая в себя свойственные разным культурным состояниям отношения с прошлым. То есть – типовые ответы на постоянно воспроизводящиеся – и потому всегда новые – вопросы: что в прошлом важно для настоящего? Что в нем способно быть интересным и достойным внимания? Что из всей совокупности предметов и их обломков, остающихся нам от уходящей жизни, достойно разыскания и хранения, а чем можно пренебречь? Как прочитывать сообщения, написанные нам прошлым на языке (языках?) всех этих вещей? Кому, как и в каком порядке сохраненное должно и может быть показано? И вообще, наконец, что (и почему!) с ним можно и нужно делать, кроме как хранить, копить и рассматривать?
Все эти ответы, обретавшиеся на каждом из этапов его истории, современный музей хранит в себе, в современном своем устройстве и понимании, как… как в музее. Их можно прочитать по его сегодняшнему облику (по многим его сегодняшним обликам), они все – поверите ли, все, вплоть до культовых и магических корней собирания предметов! – узнаются и теперь. На протяжении столетий музей учился быть собой, придумывал самого себя – и в результате впитал в себя столько всего из окружавших его состояний европейской культуры и цивилизации, что история музея как типа предприятия и его современное состояние способны прояснить нам теперь кое-что важное в устройстве воспитанного этой культурой и цивилизацией человека вообще.
Фетиши, трофеи, диковины: собирать и обладать
Самое интересное тут – то, что человек был склонен к собиранию и накапливанию предметов – причем из соображений, выходящих далеко за пределы практических, – изначально. То есть, примерно с того самого времени, как вообще стал человеком. И всегда – с самого начала и еще задолго до того, как приобрело хоть сколько-нибудь музейные формы – собирание вещей было действием символическим.
Ради чего их собирали? Коротко говоря, ради заключенной в них памяти, красоты и магической силы (собственно, первая и вторая в архаическом мировосприятии – разновидности третьей). Обладающий вещами присваивал их силу, и в этом отношении практики европейских и внеевропейских народов по существу ничем не отличались друг от друга. Во дворцах и замках правителей, в храмовых ансамблях, в местах массовых культовых обрядов, в усыпальницах царей и знати у разных народов древности накапливались ценное оружие, одежда, ювелирные изделия, драгоценная посуда…
Предшественники музея были не просто хранилищами памятного, красивого и редкого (а также того, что может пригодиться в трудные времена), но и такими местами, где человек – примерно так же, как в храме – входил в контакт с существенным, с основами жизни. Уже одним тем, что обладал определенными предметами. Но это – лишь одна сторона истории музея; корни его – еще глубже.
Они – магические. Предшественников музейных экспонатов стоит искать среди фетишей – предметов, в которых люди архаических культур чуяли силу («сверхъестественную», говорим мы сегодня, – для них она была просто силой). Кстати, фетишем – совершенно как музейным экспонатом сегодня! – была способна стать любая вещь, хоть случайно найденная: камень ли необычной формы, кусок ли дерева, часть ли тела животного – клык, кусочек шкуры, высушенная лапка; фигурка ли, намеренно изготовленная из любого мыслимого материала. Такая вещь сохраняла значимость ровно до тех пор, пока оправдывала представления о своей силе: приносила удачу, отвращала беды.
Подтверждение настоящего прошлым, к которому отсылают вещи, было знакомо уже грекам и римлянам. Известно, что они хранили инструменты, с помощью которых якобы был сооружен троянский конь, ископаемые останки животных, которых считали своими предками.
Еще одни прямые предки вещей, видимых сегодня в музейных витринах, – военные трофеи: тоже «вещи силы», ее доказательства и воплощения.
Все это было задолго до того, как музей обрел привычное нам имя, восходящее, как известно, к греческому mouseion – мусейон. Так греки называли храмы, посвященные музам – богиням-покровительницам искусств и наук. Так назвали они и основанный примерно в 290 году до новой эры Птолемеем I Александрийский Мусейон – говоря сегодняшним языком, исследовательский, учебный и культурный центр. И это еще один корень нынешнего музея – отличный от переживания магической силы вещей и связанный, скорее, с магической силой знания. В том числе – совершенно рационального.
Другой корень: познавать и служить
Научная работа, которой там занимались, тоже была контактом с основами жизни – родом религиозного действия. Никаких экспозиций в Мусейоне не было; более того, посторонних туда вообще не пускали (разве что с разрешения царя). Если бы мы спросили александрийца того времени, что такое Мусейон, тот уверенно ответил бы – храм. Он и был храмом: самым роскошным храмом муз своего времени, а ученые занятия – ничем иным, как служением музам. Собственно, таким служением занимались уже в прототипе Мусейона – частном мусейоне в Афинах: основатель его, Феофраст, позволял ученым жить при храме с условием, чтобы они занимались там науками. В Александрии то же самое было осуществлено в гораздо больших масштабах.
Всё, всё служило там музам: и анатомический кабинет, и ботанический и зоологический сады, и обсерватория, и включенная в Мусейон несколько позже знаменитая Александрийская библиотека; и ученые споры, и лекции. Управитель, который все это возглавлял, назначался царем из жрецов. Музам служили философия и математика, филология и медицина, поэзия и история, комментирование классики и переводы иноязычных авторов; а позже, после римского завоевания, всё больше места в этом стало занимать и (очень напоминавшее позднейшие университеты) обучение студентов, съезжавшихся сюда со всех концов римской ойкумены. Было там – хотя и не считалось главным – и собрание вещей, первым приходящее на ум нашим современникам при слове «музей»: чучела животных, скульптуры – их использовали как наглядные пособия для обучения.
С началом в IV веке христианской эпохи перспектив у этого очага языческой мудрости не оказалось.
В 392 году император Феодосий I, уничтожавший языческие храмы, велел разрушить храм Сераписа – последнее из зданий, остававшихся у Мусейона. Свитки Библиотеки погибли почти все; что уцелело – погубили в 640 году захватившие Египет арабы-мусульмане. Впрочем, к тому времени о Мусейоне уже давно не было никаких вестей.
Зачем же мы так долго говорим о сгинувшем Храме муз в тексте, посвященном истории языка вещей? Что осталось от него последующей культуре? Самое сильное: идея. Это она столетия спустя поможет музею перерасти и собирательство, и даже его систематический вариант – коллекционирование, и соединит их с познанием и со служением ценностям, превосходящим человека.
От собирательства к коллекционированию: впечатлять и подтверждать
Что до собирания, предметом его еще долго оставались, с одной стороны, диковины и трофеи, с другой – произведения искусства и драгоценности (красивое, редкое, штучное).
Собирательство – как и само искусство – долго чувствовало связь со своими культовыми корнями. В греческих храмах обычно хранились посвященные соответствующему богу или музе статуи, картины и другие произведения искусства, – подобно науке в Мусейоне, они были формой служения.
А вот и первые ростки светской публичности: в Риме картины и скульптуры выставлялись в городских садах, термах, театрах. В публичных местах и на частных виллах показывались захваченные во время войн трофеи – среди них и художественные. В обычае было – в качестве подтверждения своего высокого статуса – поражать гостей на званых обедах коллекциями дорогой посуды. Идеи служения здесь точно не было, – торжествовала архаическая идея силы через обладание.
Охотно демонстрировали римляне и исторические реликвии – подчеркивая тем самым, кстати, не только реальность прошлого, как оно им виделось, но и свою связь с греческим миром. Показывали, например, цепь, которой была прикована к скале Андромеда, и доподлинную кость чудовища, которое собиралось ее пожрать, но было убито Персеем. Плиний Старший сообщает о том, что семья Саллюстиев владела огромными человеческими костями, которые хранила среди урн с прахом ее предков. Подобным образом на вилле Августа демонстрировались кости диких животных – так называемые «кости гигантов»: в них видели останки предков императора.
Собирались и показывались не только подлинники, но и копии. Император Адриан собрал на своей вилле копии произведений искусства Египта и Греции, образцов высокой классики – работ Скопаса, Поликлета, Фидия. Это уже вполне можно назвать коллекционированием: продуманный отбор! Термы виллы были украшены мозаиками, фризы – барельефами и фресками, и всё это предназначалось для рассматривания посетителями. Виллу Адриана даже называют прообразом позднейшего музея, а то и попросту – «музеем в современном его понимании, вмещающем в себя два главных его аспекта: мемориальность и экспозиционность»1[i].
Впрочем, от музея наших дней Адрианову виллу отличали некоторые существенные черты: во-первых, собиралось всё это на ней не для изучения, но исключительно для наслаждения, во-вторых, открыта она была всё же для очень избранных.
Христианское Средневековье продолжило античные практики – разве что сильно сокращенные. Диковины из дальних стран как предмет собирания и рассматривания занимали людей того времени не очень, красота как предмет самоценного наслаждения церковью не приветствовалась – другое дело, если она работала на актуальные ценности. Так Карл Великий, император франков, посылал монахов в Рим, чтобы те приобрели произведения раннехристианского искусства, сочетавшие в себе классические традиции с христианскими.
Церкви и монастыри хранили у себя статуи, рукописи, драгоценности. (Инвентарная опись хранилища церкви св. Стефана в Осере (Франция), относящаяся к VII веку, перечисляет ритуальные сосуды; в описании сокровищницы Винчестерского собора в Англии конца XII века упоминаются золотые кресты, украшенные драгоценными камнями, серебряные канделябры, золотые чаши со вставками из эмали.) Иногда такие сокровища выставлялись для обозрения. С VII века стала возвращаться и практика демонстрации в публичных местах военных трофеев (так фасады храмов Пизы украсились бокалами и камнями покоренных мавританских властителей Балеарских островов).
Во всем этом точно не было системы и основательной рефлексии. Отдельные случаи уровня императора Адриана не в счет: слишком редки.
От коллекционирования к музею: осознавать и упорядочивать, выделять и предъявлять
Эпоха Ренессанса стала временем сознательно выстраиваемых светских коллекций. Итальянские гуманисты начали собирать предметы, связанные с требовавшей, по их мнению, возрождения античностью.
Франческо Петрарка коллекционировал монеты и медали, художник Скворчоне – архитектурные и скульптурные фрагменты. Медичи, правившие Флоренцией весь XV век, поддерживавшие гуманистов и художников, начиная с Козимо Старшего (1429–1464), заказывали картины и скульптуры, скупали произведения античного искусства и чужие коллекции. Появляется интерес к античной скульптуре, и Лоренцо Медичи создает во Флоренции Сад скульптур. Самое же важное – расширяется представление о возможных предметах коллекционирования.
В XVI веке появляются коллекции естественнонаучные и технические, первые гербарии – пособия для научной работы (так Улиссе Альдрованди из итальянской Болоньи, создатель энциклопедии естествознания, собрал разорившую его коллекцию из более чем 20 тысяч предметов: растений, животных, минералов и их изображений). Правители тех лет находили престижным обзаводиться – в знак своего могущества – ботаническими садами и зверинцами.
Сделать такие шаги к систематичности позволила новая (по сути – старая, как Александрийский Мусейон) для предмузейных практик идея: просвещения, преобразования умов и нравов. Ей предстояло набирать силу.
А пока, в том же XVI столетии, умами европейских аристократов овладевает еще и мода размещать в дворцовых коридорах картины и скульптуры (тогда у слова «галерея» начало созревать новое, привычное нам сегодня значение: «экспозиционное пространство»). В следующем веке она преобразит облик самих дворцов. Теперь при их строительстве уже с самого начала будут проектироваться специальные помещения для размещения в них художественных коллекций и сопутствовавших им собраний книг.
С конца XVI века в богатых домах Италии, затем Германии, позже – и в других странах стало приличным выделять помещение для произведений искусства – «кабинет»: хотя бы шкаф, а лучше всего – особую комнату. Забитые, как правило, еще и сосудами, книгами, диковинами, образцами оружия, портретами философов, поэтов, пророков, эти шкафы и комнаты сами по себе были свидетельством того, что идея переросла прежние рамки, что весь этот спектакль вещей нуждается в более крупных пространствах – а главное, в зрителях. Потребовался еще век, чтобы эта затея вышла за пределы личных развлечений и галереи и кабинеты начали открываться для посетителей.
В 1560-м в Дрездене был создан кабинет изящных искусств – Кунсткамера, соименница и предшественница петровской. Она интересна не только тем, что стала началом одного из старейших музеев Германии – Галереи Старых мастеров, но и тем, что наряду с художественными произведениями там собирались – нормой это станет гораздо позже – бытовые предметы и механизмы (в коллекции Августа I был даже образчик вечного двигателя). Произведения «старых мастеров» стали собирать отдельно лишь в 1722-м, по приказу Августа II. Сын же его повел дело систематически и начал скупать картины едва ли не во всех галереях Европы.
Ко второй половине XVIII века Европа уже не мыслила себя без публичных музеев. В 1750-м парижский Palais de Luxembourg совершил решающий шаг, открыв свое собрание картин на два дня в неделю для публики – главным образом, студентам и художникам. Вскоре оно войдет в коллекцию Лувра, который будет превращен Великой революцией в первый большой публичный музей и откроется в 1793 году.
Эра Разума: просвещать и принадлежать
Идею собирания редкостей и красот, столь еще близкую Возрождению, в Новое время категорически теснит – и, наконец, совсем вытесняет – идея утверждения истины и предъявления зрителю в облике музейной экспозиции последовательной, связной, логически выстроенной картины мира.
Просвещение – искавшее универсального знания и упорядоченности, рационально исследуемой системы во всех областях бытия – определило облик современного музея, пожалуй, в решающей степени. Более того, наверное, ни одна из культурных эпох – ни до, ни после – не уделяла такого внимания самой проблеме музейного моделирования мира. Даже мыслитель такого масштаба, как Лейбниц (впрочем, в духе времени и сам бывший коллекционером) высказывался о том, каковы должны быть задачи музея и его экспонатов.
Именно с этих пор в составе музеев преобладают представленные в четко заданном порядке подлинные предметы – осязаемые свидетельства о порядке вещей, о законах и процессах естественной, а в продолжение ее – и человеческой истории. (То есть нет: не осязаемые – зримые. В первых публичных музеях все экспонаты были выставлены в стеклянных колбах. Хватать музейные экспонаты руками еще долго будет запрещено…) Именно в это время созревает идея – сформулированная французскими энциклопедистами – о том, что коллекционирование должно быть соединено в музее с исследованием. И что одна из главнейших задач музея – образование и воспитание.
Начиная с середины – второй половины XVIII века в европейских культурных центрах один за другим открываются публичные или хоть частично доступные для публики музеи: Капитолийский музей в Риме (1734), Британский (1759), музей Пио-Климентино в Ватикане (1771–1799), галерея Уффици во Флоренции (1791)… Наряду с художественными музеями открываются естественнонаучные (порядок вещей возвещают в них чучела и скелеты, восковые анатомические модели и минералогические коллекции, а во Флоренции – и террариум с живыми змеями). В Лондоне при Обществе для поощрения искусств, мануфактур и коммерции в 1754-м появляется технический музей с коллекциями механизмов.
К началу XIX века экспозиции, прежде всего художественные, в специально для этого приспособленных дворцах станут обычной практикой. В 1820-х в истории музеев происходит важнейший переворот, прямо-таки перемена оптики: для них начинают строить особые здания.
И дело тут не только в том, что, кроме выставочных залов, эти здания-комплексы были теперь оборудованы запасниками, научным и научно-вспомогательными отделами, реставрационными мастерскими, библиотекой, архивом, лекторием, а с развитием фотографии – еще и фотолабораторией и фототекой. Гораздо важнее другое.
Примечательно, что музей унаследовал – и стойко сохранял до ХХ века включительно – черты храма (как правило, античного; есть интересные исключения вроде Красноярского краеведческого музея, который начал строиться в 1914 году и воплотил в себе, волею архитектора Леонида Чернышева, форму храма египетского) – культового здания, где происходит общение с основами бытия. Неудивительно: по мере того, как религия ослабляла свои позиции в просвещенных умах, искусство, а за ним и наука начинали всерьез претендовать на статус светской религии (чтобы затем, в ХХ-м веке, уступить это место идеологиям). «Музеи, строившиеся для почитания искусства, – как выразилась историк архитектуры Виктория Ньюхауз, – заменяют церкви, строившиеся для почитания Бога»2[ii]. Теперь «храм науки» готов заняться толкованием мира, производством и трансляцией смыслов.
Отныне культура, заводя у себя музеи европейского типа, – тем самым заявляла о своей принадлежности к числу культур европейского круга. Так было и у нас.
В России музеи начались с Петром Первым, с его Кунсткамерой (1714) – вместе с многообразными его усилиями по европеизации нашего отечества. Новосоздававшаяся институция, заимствованная в Западной Европе во вполне уже готовом к тому времени виде, конечно, понималась в первую очередь как один из важнейших инструментов просвещения, укоренения в русских головах рационального знания о мире.
Однако на самом-то деле само их учреждение было утверждением, посланием, письмом. И не только к собственным подданным Петра («будьте европейцами!»), но и к самим жителям Европы:
«Смотрите, мы относимся к своему прошлому, к миру, к знанию о них в точности как вы, европейцы. У нас с вами общие способы моделирования мира, организации символического пространства; общие языки для того, чтобы о мире говорить. Значит, мы – одни из вас! Примите нас как равных!».
От истины к истинам: воодушевлять и исследовать
Открытию – даже, наверно, не столько познавательному, сколько эмоциональному, ценностному – национальной истории, очарованию самой идеей национального, воодушевлению от самой его возможности с конца XVIII и, особенно, в первой половине XIX века в европейских странах сопутствовало открытие в них национальных музеев. В 1802 году открывается Венгерский национальный музей в Пеште, в 1818-м – Чешский в Праге, в 1852-м – Германский национальный музей в Нюрнберге, надеявшийся создать культурное единство немецкой нации еще раньше политического. Да, музеи этого рода были призваны не просто стать высказываниями на языке вещей о национальной реальности – они стремились ее создавать. Ставить человеку глаз так, чтобы он, прежде этой реальности не замечавший, начинал ее видеть. Историю они представляли как процесс созревания нации. (В России эту нишу занял прежде всего московский Исторический музей, учрежденный в 1872-м, и, с другой, художественной стороны, – основанная в 1892-м Третьяковская галерея.)
В Александрийском Мусейоне служили, как мы помним, музам. В музеях Просвещения – универсальной Истине и разуму. В музеях первой половины XIX века всё чаще служат родине и нации.
Нет, Истина еще не забыта. Она пока – дробится, ветвится. В соответствии с множеством ее обликов, в XIX веке возникают всё новые типы музеев: к художественным, естественно-научным, историческим добавляются теперь научно-технические, литературные, театральные, музыкальные, архитектурные, педагогические, сельскохозяйственные, промышленные, этнографические, декоративно-прикладного искусства… Свойственный XIX столетию историзм помог увидеть, что, оказывается, у каждого предмета есть своя история.
Отсюда оставался лишь один решительный шаг до открытия ХХ века: музеефицировать можно, по существу, что угодно. Утюг? Валенок? Коломенскую пастилу? Почту? Сновидения? Пожалуйста. – Но XIX век оставался еще в рамках строгого, рационального, высокого знания. К ХХ-му, не говоря о XXI-м, Истина рассыпалась на множество маленьких истин.
Тогда же происходит окончательное смещение музейного интереса от сокровищ, диковин и редкостей – к простому, бытовому, повседневному предмету. От штучного – к серийному и среднестатистическому.
В ХХ веке дело зайдет и того далее: от единичной вещи – к комплексу, к среде, к целому. К совокупности вещей, не равной их простой сумме. Так будут подвергаться музеефикации – остановке во времени – целые городские кварталы (как «Родина Ленина» в Ульяновске, которая сохраняет свой облик, успевший сложиться ко второй половине XIX столетия, – и теперь уже вне всякой зависимости от того, что однажды там прошло детство одного политического деятеля) или даже целые города (так произошло с болгарской Копривштицей, не меняющейся с той же второй половины позапрошлого века – времени болгарского национального Возрождения).
Будущее музеев и музеи будущего: присваивать и проектировать
Ни музей-храм, в котором прошлое благоговейно созерцается, ни музей-трибуна, с которой некоторая версия прошлого становится средством агитации, никуда не исчезли и теперь. Но к ним добавляется, начинает с ними взаимодействовать принципиально новый тип музея, прежним эпохам, по всей вероятности, неведомый: мастерская, в которой прошлое как будто вырабатывается собственными руками (правда, по заранее предложенным моделям). Нередко принимающая вид игровой площадки.
Уже во второй половине ХХ века появляются музеи-аттракционы – немыслимые в созерцательном, почтительном, соблюдающем дистанцию XIX веке. Из предмета пассивного восприятия явленное в вещах и образах прошлое превращается в предмет активного взаимодействия, если не сказать – манипуляции. С ним можно – более того, нужно! – играть и экспериментировать.
(Становится ли от этого его восприятие менее серьезным и более, скажем, условным и потребительским, – большой вопрос, на который, возможно, нет однозначного, общего для всех ответа. Скорее всего, то, каким будет ответ в каждом из случаев, в решающей степени зависит от личной глубины и внутренней оптики воспринимающего, наработанных за пределами музейного пространства.)
У музея усиливается коммерческая функция, а с нею – и не отделимая от нее функция развлекательная. При музеях появляются сувенирные лавки – а то и большие сувенирные магазины, где каждый желающий может купить себе кусочек прошлого: точную копию перьевой ручки Зигмунда Фрейда, древнегреческого масляного светильника, кусочек изразца, подобного тем, что изготавливались при Строгановых в Усолье Камском; посуду и одежду, не отличимые от тех, что использовали эстонские хуторяне… – сделать его частью своего повседневного обихода. Это, несомненно, следующий шаг по пути символического присвоения прошлого – идущий куда дальше того, на что способно простое зрительное восприятие.
(Может ли такое, присваивающее восприятие прошлого похвастать большей адекватностью? Вырывая вещь – пусть лишь точный ее муляж – из родного ей контекста, вращивая ее в совсем другие контексты, входя с нею в подробный тактильный контакт и упраздняя дистанцию, не обманываемся ли мы, не остаемся ли слепыми к ее исходным значениям? Ответы на эти вопросы тоже совсем не так однозначны, как можно подумать.)
Тем более, что музей и за пределами сувенирной лавки принимается работать с телом и душой человека в целом: чувственное воздействие его на человека расширяется и становится всесторонним. Одного зрения ему давно недостаточно. Теперь в соблазнение прошлым вовлечены слух (автор этих строк по сей день не может забыть городские звуки начала ХХ века: цокот копыт по брусчастке, звонки трамваев, – ставшие фоном к выставке о «Москве Пастернака в событиях и лицах» в столичном Литературном музее весной 2015-го; звучание каждого из старинных музыкальных инструментов, выставлявшихся в свое время в Этнографическом музее Варшавы), обоняние (как забудешь живой, резко схлопывающий дистанцию между тобою и прошлым запах копоти в хуторских домах из Рокка-аль-маре?! А – это уже о терморегуляции – чувство холода от их каменных полов?), осязание (в берлинском Музее ГДР, запуская руку в специальные ящики, можно пощупать образцы тканей, выпускавшихся в социалистическую эпоху), вкус (в Таллине есть кафе-музей, где готовят блюда исключительно по историческим рецептам).
Кстати, все это наводит на мысль еще и о том, как изменяется общекультурное понимание (если угодно, общекультурная интуиция) того, что такое человек, как он устроен, как соотносятся между собою разные уровни его устройства. Человек, то есть, перестал восприниматься как существо прежде всего рациональное, умственное. Вплоть до глубокого ХХ века музеи адресовались, как мы помним, по преимуществу к его зрению и уму, оставляя без внимания иные его способности (кроме разве что воображения). Нынешний способ работы музея с посетителем заставляет подозревать, что человек именно теперь – вопреки распространенным ламентациям о его постмодернистской раздробленности – по-настоящему открывает и осваивает собственную (предшествующую идеологиям и проектам) цельность и то, что к восприятию и производству смыслов в нем имеет отношение решительно все. Что пустого, бессмысленного и незначительного нет. А рациональный, анализирующий разум – чьим голосом говорили музейные экспозиции XIX века – в нем совсем не главное.
Поэтому, если уж искать слово для обозначения главной характеристики музеев будущего, на эту роль хорошо подойдет слово «всеохватность». Комплексность.
Не зря в позднем ХХ веке появляются музеи-комплексы. В них – всё: и лекционные залы, и библиотеки (вспомним Александрийский Мусейон – первый комплекс!), и кружки для детей, и кафе для обсуждения увиденного за чашечкой кофе, и сувенирные и книжные лавки. И исследовательские лаборатории, да. И издательства.
Вот только машины времени, когда ее наконец изобретут, ни в одном из музеев точно не будет. Разве что в виде экспозиции устаревших нерабочих моделей в Музее хрононавигации. Но так, чтобы сесть и поехать, – нет, не надейтесь. Чтобы мы, не приведи господи, ни за что не узнали прошлого таким, каким оно было не в свете наших представлений, поисков, ожиданий и задач, а – на самом деле.
Коментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.