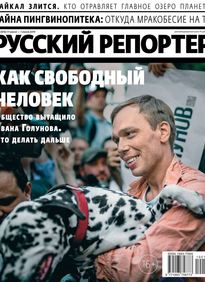Лилия Родионова — член комиссии по делам военнопленных ДНР. Я прихожу к ней со списком фамилий украинских военнослужащих-контрактников, пропавших в августе. «Таких не было» — ответы, полученные в казачьей части в Свердловске, где, по информации матерей, могли находиться солдаты, в СБУ Донецка и других подразделениях ДНР и ЛНР звучат одинаково. Матери пропавших утверждают, что их детей вывезли на территорию России сотрудники ФСБ. Каждый раз я передаю им: из моих поисков ничего не вышло, а они спрашивают: «Почему мы не можем найти наших детей?»
— Ременюк… — Лилия читает фамилии из списка. — Ременюк — «двухсотый». Уже и мама его об этом знает. Они просто смириться не могут. И ДНК совпадения есть. Но родители все равно не верят. Ну, вот я каждый день разговариваю с одним отцом — пятнадцать лет его сын проработал в Москве, приехал в отпуск домой, буквально сутки побыл, в шесть утра пришли, мобилизовали. У него были берцы какие-то особенные. Отцу предложили опознать по берцам, но он не согласился. Ему сказали: «Не хочешь забирать этого, бери того». А есть у меня история, где три раза сошлась ДНК, но мать не согласилась с результатами. Мама же знает своего сына. Если у взрослого человека не было зуба, то он и не вырастет. А ей отдают тело с зубом. «Позвольте… зуб не вырастет… Не возьму». «Как не возьмешь? ДНК совпала. Забирай».
— Вы хотите сказать, что это подтасованные результаты совпадений по ДНК?
— Я не знаю. Мне трудно судить, что там происходит. Но я сталкиваюсь с тем, что люди не верят в смерть своих детей, даже если есть совпадение ДНК. А с матери Ременюка мошенники уже порядка 50–60 тысяч гривен содрали. Обещали, что они его привезут. С чего все началось? Якобы их российские солдаты взяли в плен. У меня был список — сорок человек. И Ременюк в нем, и Карпов, и Олег Чиж. Матери утверждали, что якобы они находятся в Лефортове. Подождите… «Твой сын кто?» — «Слесарь». — «Твой сын кто?» — «Учитель». — «Твой сын кто?» — «Водитель». Кому они нужны в Лефортове? Они рядовые — кому-то интересны? Никому. Их там, конечно же, нет. Были единичные случаи, когда раненых из Иловайского котла вывозили на Россию. Сюда до Донецка везти — 80–90 километров, и еще обстрелы. Ближе было в Россию, в ростовский госпиталь. Были случаи, когда мы вывозили сюда семьи ребят, попавших в плен, а отсюда отправляли на Россию, чтобы парень больше не шел воевать. Потому что он этого не хотел. Но чтобы насильно держали в России — это чушь. Потом появилась версия, что они проданы в рабство чеченцам. Все экстрасенсы как будто сговорились, утверждали, что видят, как ребята работают в тяжелых условиях на кирпичных заводах, а рядом вода. Потом начали появляться другие версии: работают они в копанках, в шахтах. Да какие копанки?! Тут они уже все развалились. Тут самим шахтерам работать негде. Чушь! Теперь другая версия: они чуть ли не на Северном Ледовитом океане лед рубят, не знаю, для чего. Потом: что в Крыму на виноградниках работают. И еще… Есть списки небезызвестного Рубана. (Украинский генерал-полковник Владимир Рубан известен своей посреднической деятельностью при обмене военнопленными. — «РР».) Без вести пропавшие у него числятся в плену.
— Почему?
— Я не знаю.
— А без вести пропавшие — это все равно что мертвые?
— В 90 процентах случаев. Есть еще места, где, возможно, находятся захоронения. И мы до сих пор их поиск не прекращаем. Мы и вчера собирали останки… В Луганске судмедэксперт мне рассказал: он живет в Хрящеватой, и как раз когда там все эти бои шли, пришли к нему представители ВСУ и попросили бензина. «Зачем?» — «Тела надо сжечь». — «Подождите! Что ж вы делаете? Жечь нельзя. Потом ДНК нельзя будет взять». — «А трупный яд?» В общем, рассказали ему эти мифические истории о том, что все заразятся трупным ядом и умрут. «Закопайте! Жечь нельзя! То, что в земле, и семьдесят лет пролежит, а ДНК все равно извлечь можно будет». А из того, что сожгли, уже не извлечешь.
Кто узнает обгоревшего
— На той стороне людям сложно представить, что когда взрывается боекомплект, от танка ничего не остается. Металл раскаляется докрасна и плавится, течет, как смола. Какое там тело? Все спекается до вот такого вот кусочка, — показывает кулак, — и из него материала не получишь. Там можно только экипаж к номеру танка привязать. По-другому — нет. У меня тут одна женщина требовала и требовала «повернути сина»: «Де ж він є? Серед пленних немає, серед загиблих немає». А где он? Ну, где он?! Старобешевский район. Там на проводах и на деревьях куски тел висели. Разрывало тела на части. Вчера в Углегорске были. Выкопали фрагменты. Ребята с украинской стороны забрали, а выехать не смогли, потому что обстрел. Здесь переночевали, а сегодня утром мы их уже туда отправили. Они вчера, конечно, шок от обстрела получили… Ну, и лисы с собаками в оврагах все растащили. А еще мы сталкиваемся с тем, что украинская сторона забирает только то, что хочет, а чего не хочет, то бросает.
— А чего не хотят?
— А вот в Новогригорьевке ребят собрали и в окопах прикопали. Приехал офицерский корпус. Чангар — позывной этой женщины. Что можно будет узнать, она забрала, а обгоревшее — фрагменты, руки, ноги — они там бросили. Кому нужен обгоревший? Кто его узнает?
— А вы зачем их взяли?
— Чтобы отправить на Украину.
— То есть вы берете сгнившие куски тел, загружаете в машину и отправляете?
— Конечно. В Чернухино, когда люди начали возвращаться в разбитые дома, находили там просто кусочки черепа. Мы складывали в пакетик и отправляли.
Обращайтесь в военкомат
— Чиж Олег… С его сестрой мы долго перезванивались. У этой девочки был только брат, больше никого. И она одной из первых начала: «Чиж Олег! Пропал Чиж Олег!» Мы начали спрашивать: «Кто видел Олега Чижа?» И один из пленных назвал себя этим именем. Но на той стороне выяснилось, что это обман. А когда его спросили, почему он так сделал, ответил: «Я слышал, что его все ищут, и подумал, если я скажу, что это я, то быстрее домой попаду». Этот пленный врал, а мы считали, что Олег Чиж жив. В поисках Олега Чижа мы прошли все этапы: Лефортово, Чечня. А уже было совпадение ДНК стопроцентное.
— Извлеченное из останков?
— Да. Он где-то то ли на Саур-Могиле погиб, то ли в Степановке. И жетон его нашелся, и крестик индивидуальной работы. Но сестру долго на той стороне уверяли, что он в плену там-то и там-то. Думаю, что скорее всего они так пытаются скрыть потери. У нас был пленный Николай Сурменко из Херсона. Мы долго общались с его мамой. Он чернобыльский ребенок, весь больной, у него сахарный диабет, он вот такой вот, — показывает рукой расстояние от пола в метра полтора.
— А почему он пошел воевать с такими проблемами?
— А там не спрашивают. Там есть мобилизованные без пальцев рук. Есть с инфарктами… Да, Ярослав, — отвечает на звонок. — Сейчас занята, давайте через полчаса… Это с украинской стороны звонят, — поясняет Лилия. — Союз «Народная память». Мы с ними по пленными работаем… Так вот у матери Сурменко сердце болело за то, что ее сын здесь, но она боялась и того, что его повторно мобилизуют. А все село смеялось над ней: не верили, что ее сын на войне. Говорили: «Да ты спрятала его где-то». А когда он вернулся из плена домой, собрали 5 тысяч гривен ему на лечение… А был у меня случай, когда женщина из какой-то глухой деревни Западной Украины, которая не знает, что такое мобильный телефон, нашла где-то списки пленных Рубана. В них ее сын числился двести каким-то. Она отсчитывала по ним количество уже освобожденных. Кто-то ей дал телефон, набрал мой номер, и вона каже: «Будь ласочка, видпусти мого синочка до дома». — «А почему мы его должны отпустить?» — «А у нього завтра день народження. Дев’ятнадцать рочкив ему буде». — «У нас его не было и нет». — «Як же так? Вин же в списках Рубана». И она понять не могла, что ее сына нет. Его совсем нет. Понимаете? Я им всегда говорю: обращайтесь в свой военкомат. Ведь это же они пришли и забрали вашего сына. Они за него отвечают. Может, они какой-то запрос сделают. Но знаете, как к матерям относятся там, на Украине… Один только командир из Иловайского котла каждый день звонил мне: «Как там мои ребята? Этот? А этот?» Он не требовал: «Отдайте!» Он просто про каждого спрашивал, и я вместе с ним уже выучила все их фамилии. Это был единственный командир, который интересовался судьбой своих ребят. Единственный!
— Сейчас у вас есть пленные?
— Есть. Мало, но есть. На обмен пойдут. Я сама к пленным часто захожу. У них есть телефоны, они звонят своим родственникам. Там есть медпункт, оказывается любая помощь. Но раненых мы стараемся сразу отдавать. У нас был парень из Дебальцево. Он ехал на такой машинке с маленьким кузовом — раненых они вывозили. А холодно ж было. Попали под обстрел на трассе Артемовск-Дебальцево. Те, кто в состоянии был ходить, они… бросили раненых. А с этого парня сняли обувь и часы: «Тебе больше не пригодятся». Раненые еще стонали, но к вечеру все утихло. Он сидел с лейтенантом в кабине. Лейтенанту двадцать два года. Тоже раненый. Лейтенант ему говорит: «Прижимайся ко мне, пока не замерзли». Потом лейтенант умер, и он грелся об него, пока тот не остыл. Трое суток он вылезал из кабины и лизал снег, но потом уже не смог залезть обратно, так и остался на снегу. Когда пришли ополченцы и подняли его, он подумал, что это ангелы.
— Как они поняли, что он живой?
— Стонал. Они его сюда привезли обмороженного. А я вам не сказала, что он сам медик, хирург. Давление у него уже по нулям было, тело окоченело. Мы быстро с той стороной связались: «Готовьте самых лучших докторов!» Хотели сохранить ему руки. Но правую он потерял.
Политика на зоне
— У вас есть информация о том, как обращаются с пленными ополченцами?
— Плохо, но мы не мстим. Мы просто хотим, чтобы там нас услышали и поняли: мы люди, и мы хотим по-людски. У кого есть разум, до того дойдет.
— Вы не мстите, потому что против насилия или только для того, чтобы вас услышали?
— Чтобы не причинять насилия никому! Они должны нас услышать: нельзя поступать так! Так звери не поступают! Правда, гражданские после плена берут в руки оружие. У нас тут был один вор в законе, огромную зону держал. Он сам из Дебальцево. После обстрела вышел посмотреть, цел ли дом, его сразу повязали как сепаратиста. Потом нам его всунули — на обмен. И он, освободившись, сразу же пошел в ополчение, хотя у них на зоне действовал принцип: мы ни за красных, ни за белых, зона — вне политики. Хотя сейчас уже и зона в политике. Когда наших людей осуждают за сепаратизм и бросают на зону, там над ними очень жестоко издеваются зеки.
— А им-то что?
— Но они же зеки с той стороны. Не знаю, что им, но это вот так. Хотя и другой случай вам расскажу. Гражданские попали в плен под Снежным. Их держали на Краматорском аэродроме в ямах с трупами, и один из этих мальчиков после попал в Полтаву на зону к зекам. Это тоже у них такая воспитательная работа — кидают к зекам. Этого мальчика там жестоко били, а когда туда же кинули второго, Алексея Жукова, тому уже выбили все зубы. А у него сахарный диабет. Так вот у него сахар повысился, он начал в кому впадать. Тут смотрящий узнал об этих двух осужденных за сепаратизм, и издевательства моментально прекратились. Дошло даже до того, что зеки ему еду пережевывали. Всего очень много разного происходит.
Плен возле дома
— Я и сама в плену на той стороне побывала. В июле 2014 года. Я начала ездить в Славянск, вывозить оттуда и раненых, и гражданских с инфарктами и инсультами. Брала всех, кого только можно было запихнуть в скорую. Потом начала ездить в Снежное. Ехала в Мариновку забрать украинского раненого и привезти его сюда, в Донецк.
— Почему вы решили из-за украинского раненого рисковать жизнью?
— А какая мне разница? Мы целый день вывозили раненых из Снежного. И потом вот этот один остался. Его надо было перевезти в больницу. А уже темно было, и мы заехали на украинский блок-пост. Откуда он только там взялся? Скорую расстреляли. Как мы живы остались, непонятно. Мы позалезали в такие ниши… не знаю, как мы в них вместились.
— А кто стоял на блок-посту?
— Пограничники, я так полагаю.
— Но украинские пограничники вроде не бьют и не обижают?
— Они нас и не били. Они даже колебались, что с нами делать. Может, отпустить? Я когда вылезла из скорой в медицинском костюме, они матом: «Медики!» — «Да, медики. Было бы странно, если бы в скорой ехали не медики». Машина ехала с мигалками, нас издалека было видно. Но они стреляли от страха, думали, что мы диверсионная группа. Наконец после долгих колебаний они решили нас по этапу отправить. Привезли в Успенку, оттуда — в Солнцево Старобешевского района. Там уже начали применять силу. Оттуда на вертолете отправили на краматорский аэродром.
— Применять силу — это что значит?
— Били прикладом. До сих пор плечо болит. Раздевали догола. Правда, не знаю зачем. Ползти заставляли по земле от вертолета к стенке, имитировали расстрел.
— Вы ползли?
— Я не ползла, остальные ползли с мешками на голове. А меня вели. Нас били прикладами.
— Что вы чувствовали, когда вас раздели? Стыд?
— Ничего. У меня мешок на голове был. Полное опустошение. Меня потом спрашивали: «А ты молилась?» Я говорю: «Да. Господи, помоги. Больше ничего». Ну, им почему-то нравилось это делать. Мне тяжело было раздеться. Конечно. Но потом я подумала: если вам это нравится, если вам этого хочется, то наслаждайтесь. Потом разрешили одеться. А мешок не снимали.
— Значит, вы их не видели?
— Не видела. Я только кроссовки у одного в Солнцево видела, больше ничего. Только голоса их слышала. Потом отвезли нас в Изюм. Там милиционеры были, и они тоже: «Вы ж медики, вас-то за что?» Воды нам принесли, потом хлеба с чаем и в камере закрыли. Оттуда отправили на Харьков в СБУ. Там мы в машине долго ждали, и завязался с охранявшими разговор. Хотя разговаривать было запрещено. Но один из них сказал: «Я сам родом из России. Я на Майдане в “Беркуте” был». — «В “Беркуте” был? А что ж ты тут делаешь?» — «А я остался верен присяге». — «А кому ты присягу давал?» — «Народу». — «Ну, вот я — народ. Вот я сижу перед тобой с наручниками и мешком на голове. Я ж народ». — «Но ты ж сепаратистка». — «А ты знаешь, почему я сепаратистка? Потому что когда Майдан стоял, я каждый день работала. Вечером бежала домой с работы, включала телевизор, чтобы узнать, что происходит. И вот когда вас начали цепями бить, когда вас начали жечь, я вышла на митинг и кричала… Нет, я не кричала «Хочу в Россию!», я кричала «Слава “Беркуту”!» Мы не знали, как еще вам помочь. Мы просто кричали, чтобы вы знали, что мы — с вами. А теперь ты как хочешь, так с этим и живи!» И когда меня уводили, он взял и по руке меня погладил, потом поймал мою руку в наручнике и дважды ее пожал. Все.
— Это рукопожатие вошло в копилку ценных для вас жестов?
— Пусть это в его копилку входит! Если он живой остался, пусть сам думает! Российский МИД сделал о нас запрос в Харьковское управление СБУ. Ему ответили, что нас там нет. Мы ведь там нелегально находились, без документов. Мне приписывали, что мои отпечатки пальцев, которых у меня никто не брал, найдены на четырех гранатометах. А потом пошли разговоры: «Их уже ищут». Вот это радость была — нас ищут. Тогда уже перестали бить так откровенно. В Солнцево моя мама живет. От того места, куда нас привезли, до дома, в котором я родилась, — десять километров через поле.
Существо без ничего
— Тогда мы подарили амулет одному украинскому офицеру. Не знаю, жив ли он, в Старобешево потом было очень жестко.
— Зачем вы ему подарили амулет?
— А если бы не он, нас бы убили. Там еще какой-то батальон стоял. Они все говорили по-украински. И когда вот этого офицера забрали на обед, они к нам подошли, размовляли на такой западенской мове. Вот эти уже начали пинать: «Ты, фашистка, пришла на мою землю». — «У меня тут мама живет! А ты тут откуда?!» Офицер вернулся, увидел это, всех разогнал и поставил свою охрану, запрещал подходить к нам и вступать в разговор. А так кто знает, чем бы это кончилось. Запросто могли изнасиловать и покалечить. Без вариантов. Они злые были. Это происходило с 23 на 24 июля, а с 21 по 22 там они сами себя постреляли. Получилось как — у них там большая часть стояла в Каштах. Этого населенного пункта даже на карте нет, а сейчас многие мне звонят — их дети в Каштах и пропали. Им обед и ужин на вертолетах привозили. А в Солнцево, — Лилия рисует схему на листке, — тут вот высотки стоят, тут речушка маленькая, а дальше — уже село. И вот они оттуда почему-то начали по этой части стрелять. А эти стали туда стрелять. И перестрелялись до такой степени, что землю выжженную только оставили. Я знаю потому, что нас кинули в воронку, я там рукой трогала. Там раньше клубника росла — я же местная, я знаю. А теперь только зола оставалась.
— А зачем они в своих стреляли?
— Ну, такое у них часто происходит. Раньше это было нечаянно, потому что у страха глаза велики. Кто-то где-то выстрелил — и начинается. В Краматорске так же потрепали тогда 95-ю аэромобильную бригаду. Нам говорили: «Мы вас отдадим 95-й. Они сейчас злые. Они с вами расправятся». Текст — дословный. Вы спрашивали, представляла ли я себе их. Да, одного представляла. Высоким, с таким вот носом, — показывает загнутую линию.
— Вы сейчас рисуете образ какого-то Мефистофеля.
— Он был очень жестокий. Очень. И размовлял на чистой западенской мове. Но когда мы сидели в машине, подошел к нам такой, судя по голосу, молоденький-молоденький паренек. Начал совать мне кусочек шоколадки в руку: «Їсте… Їсте…» Шепотом говорил, боялся, что услышат. «Їсте… Їсте…»
— Вы чувствовали себя жертвой?
— Да.
— Вы чувствовали себя униженной?
— Да. Я чувствовала бессилие. Чувствовала себя существом без прав, без ничего.
Уже не враг
— Вы пожалели о своей деятельности?
— Нет. Нет, конечно. Я ездила в Северск, вывозила раненых из больницы. Приехала, а электричества нет, по-темному на-шли эту больницу. Медсестричка оттуда звонила, просила забрать раненых. А когда мы уже оттуда выехали, она снова позвонила и сказала, что через полчаса за-шли туда нацики (бойцы Национальной гвардии. — «РР») искать раненых. Мы когда их сюда в Донецк везли, они не верили, что кто-то мог за ними приехать. А потом через два месяца позвонил отец одного из них и спросил: «Такого-то помните?» — «Да, помню». — «Он погиб». Как я могу о чем-то жалеть? Да, до всех этих событий у меня была хорошая работа, кошка, собаки.
— Где они теперь?
— Мой дом долго был на оккупированной территории. 7 августа в ночь, а тогда еще и электричества не было, я заехала домой. Была я там ровно семь минут. Меня встретила мама. Я погладила собак, погладила кошку. И уехала. Собаки после этого отказались есть. За ними — кошка. Все они умерли. И нет у меня теперь ни собак, ни кошки… Раньше у нас в семье ужин был в семь часов, скатерть на столе, цветы. Я не знала, что смогу спать в палатках, есть из чего попало и что попало. Жить без денег. Обходиться без косметики. Без всего того, что раньше казалось мне нужным.
— За год находящиеся тут стали свидетелями ужасающих событий. Таких, которые не могут происходить даже в самом страшном кино. Почему все это случилось?
— Мы в Донбассе — все равно что микробы, блохи. Кому мы нужны? Тут другие силы задействованы, они огромны. Все случается тогда, когда этому надо случиться. Я все-таки думаю, что Советский Союз — это было хорошо. Людям тут не нужна никакая Новороссия, никакая Россия. Люди хотят вернуться в Союз.
— Чтобы обрести если не равенство и справедливость, то хотя бы идею о них?
— Я акушерка. Я принимаю роды с 1985 года. Я помню, что о многом плохом мы узнали после распада Союза. У меня было много-много родов. Прошло время, и я начала принимать роды у тех, кого принимала в родах.
— И что вы чувствуете, когда сейчас собираете кусочки от тех, кого, возможно, принимали в родах?
— Я видела много убитых… Даже когда я вижу незнакомого, мне тяжело… Вот был случай у нас. Позвонила мама Харитонюка. У нее пропал сын. А через два-три дня я поехала в Логвиново, там холмы такие, линия высоковольтных передач. И танк разбитый стоит. Мальчик-ополченец показал мне захоронение. Он в воронке украинского солдата похоронил. А я смотрю, на табличке написано: «Харитонюк». — «Ой, а его мама искала». Он спрашивает: «А сколько ему лет?» — «Не помню. А тебе сколько?» — «Двадцать один. Я его похоронил». То есть во время боя он похоронил его в воронке. Холмик сделал, нашел палки, связал крестик, еще и табличку потом подписал, шлем сверху надел. «Вот он — враг. А ты так сделал. Зачем?» — «Не-е-ет, он мне уже не враг. А вы скажете когда-нибудь, сколько ему лет?» — «Скажу». А тут мама опять на связь выходит. Девятнадцать лет ему было — танкисту этому.
— Люди не хотят убивать друг друга?
— Нет, конечно. Мы пленных недавно на обмен повезли, — рассказывает Лилия новую историю, — и «двухсотых» отдать тоже. Там окопы такие узкие на украинском блок-посту. Я вышла из машины. Темно. Чуть на голову одному солдату, сидевшему в окопе, не наступила. Они: «Мы не в курсе про обмен». — «Сейчас я свяжусь». А связи нет. А из окопов уже человек двадцать вылезло, и все возле меня крутились — им интересно было. Один мальчик подходит ко мне: «А скажите, это правда, что у вас там дети раненые?» — «Конечно. И раненые, и без ножек, без ручек, без глазок остались». — «А вы не обманываете? Это правда?» — «Правда». Тут приезжают с нашими. Я-то четверых привезла. А тех оказалось восемь. И они: «Нет, тогда отдадим только четверых». Так вот, когда меня к стенке расстреливать ставили, у меня руки так не тряслись. Хорошо, было темно, и они этого не видели. Я не понимала… Вот они передо мной со связанными руками, с мешками на головах. Мне можно только четверых забрать, а остальные? И я там блефовала вовсю.
— Как?
— Где-то шутила, где-то кого-то обняла. «Я ж вам троих везла, а четвертого — в подарок. И вы мне подарок сделайте». Когда всех отдали, я, чтобы быстрее оттуда уехать, пока не передумали, сама схватила эти мешки с «двухсотыми» и перекидывала их в другую машину. Потом пошла возвращать фонарик, который они мне одолжили, и тот же мальчик ко мне тянется из темноты: «Скажите, а что мне теперь делать?» — «У-уходи! Убегай, пока ты живешь. Беги отсюда, беги!» Вот этот мальчик — в моей копилке. Его я буду помнить… А что будет с нашими людьми с той и с этой стороны после войны… Они же как собаки, попробовавшие кровь. Потом с такой собакой очень тяжело совладать. А с людьми еще труднее. Особенно с женщинами. Если она пошла с оружием убивать, то стала крайне жестокой и опасной. Для нее война как алкоголизм. Я видела таких женщин. Меня спрашивают: «А если бы у тебя тогда было в руках оружие?» Я не знаю, как повела бы себя я, но мне кажется, я не могу убить. Ну не смогу я убить. А мне еще говорят: ты должна их ненавидеть. Подождите… Почему я должна кого-то ненавидеть? Я всегда пытаюсь понять человека и найти ему оправдание. Ведь он все равно чем-то руководствовался и право выбора имел. Может, где-то он чего-то не понял, а может, где-то чего-то не понимаю я… Но я не ненавижу.