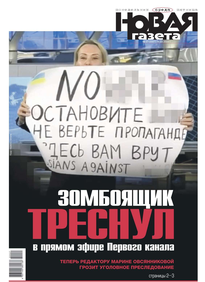Феликс Эдмундович Дзержинский (1877–1926), сын польского мелкопоместного дворянина-учителя, не получил даже среднего образования, зато имел за плечами бурную революционную молодость (аресты, тюрьмы, ссылки, побеги). Во время октябрьского «майдана» 1917 года «брал» почту и телеграф, а последующие годы до самой смерти — не вылезал из большевистского правительства, открыв собой черный список руководителей карательных органов — ВЧК («чрезвычайки»), ГПУ и НКВД.
Он искренне считал себя «мечом революции». Суды он считал пережитком прошлого, рудиментом, чем-то вроде аппендикса. Он широко практиковал заложничество с угрозой расстрела и боролся за право чекистов на аресты без санкций и расстрелы без суда: в противном случае получалось бы, что чекисты вводили заложников в заблуждение, что непорядочно. Если меченосцы иной раз схватят и шлепнут безвинного, он находил это приемлемым.
Собственно говоря, он и был лицом «Красного террора», террористом №1, причем террористом по должности, чем и гордился. Среди его жертв не только монархисты и белогвардейцы, но и священники («церковники»), бастующие железнодорожники, «гнилые интеллигенты», сопротивляющиеся крестьяне, да кто угодно!
Пять раз Дзержинского бросали на руление разными карательными органами. Но даже нечекистские его должности звучали грозно: например, председатель Главного комитета по всеобщей трудовой повинности (Главкомтруд) или МеталлЧК при ВСНХ.
Его серьезные нечекистские должности — Наркомат путей сообщения и ВСНХ. Возглавляя коммунистическое хозяйство, он был и председателем комиссии «по улучшению жизни детей» (то есть по борьбе с детской беспризорностью). От слез умиления влажнеют глаза нынешних поклонников Феликса Эдмундовича, когда они заговаривают о его заботе о детях революции. Он только что какашки за ними не убирал! Хотя на самом деле беспризорники, шпана, были для него лишь фактором неконтролируемого государством террора над гражданами, а потому и недопустимого. Ничего иного, сюсюкающего, тут и близко не было.
А однажды, с 8 июля по 22 августа, Дзержинский даже уходил в отставку с поста председателя ВЧК — только для того, чтобы принять участие в качестве свидетеля в процессе над чекистами — убийцами германского посла Мирбаха 6 июля 1918 года.
В ряде городов России были приняты муниципальные законы о том, что их улицы не должны носить имена террористов: это привело к тому, что эти города уже распростились с улицами Халтурина, Желябова, Александра Ульянова… Тогда почему то же самое не распространяется на Дзержинского?
Дзержинский, кстати, везением, мемориальным вниманием и глорификацией не обижен. Он потому и Феликс (т.е. «счастливый»), что чудесным образом уцелел еще в утробе матери, упавшей незадолго до родов в погреб.
Дзержинского охотно хвалили и Ленин (называл его «пролетарским якобинцем»), и Троцкий, и Сталин (правда, мертвого: «правильный троцкист, хорошо дравшийся с троцкистами»). Кстати, на похоронах Дзержинского Троцкий (справа) и Сталин (слева) дружно несли деревянный гроб Железного Феликса.
По «увековеченности» памяти Дзержинский уступает, вероятно, только двоим — Ленину и Кирову. В настоящее время имя Дзержинского на постсоветском пространстве носит около 1500 топонимов, и даже брежневский Днепродзержинск на Украине до сих пор еще не переименован в Бандерiивск. Он, кажется, единственный, кроме Ленина, у кого в ход пошла даже аббревиатура имени, фамилии и отчества — «ФЭД»: это имя до сих пор носит Харьковский машиностроительный завод, выросший из мастерских Коммуны им. Ф.Э. Дзержинского для беспризорников и традиционно (чуть ли не до сих пор!) выпускающий фотоаппараты бессмертной марки «ФЭД».
Саму идею вернуть Дзержинского на Лубянскую площадь коммунисты по привычке слямзили. Вбросил ее в 2002 году демократический мэр Лужков: мол, фигура, да, сложная, но баланс плюсов и минусов у Дзержинского положителен, да и творение Вучетича — «что твой Буонаротти»! — не должно прозябать.
На самом деле сложного в этой фигуре ничего нет, но мифологема несколько изменилась. Если Хрущев, ставя памятник Дзержинскому в 1958 году в самом центре Москвы, бил им по Сталину, противопоставляя «рыцарей-ленинцев» «вурдалакам-сталинцам», то сейчас, когда в деталях известно, что Ленин вурдалак не меньший, это противопоставление потеряло смысл. Теперь уже Дзержинский интерпретируется как носитель идеи чрезвычайной законности и сильной руки, столь необходимых именно в трудные кризисные времена. В таком случае он означает собой эманацию и реинкарнацию самого Сталина, о возвращении памятников которому еще громко не говорят, по крайней мере, в Москве.
Да кого теперь ни поставь на лубянский водопойный подиум (здесь когда-то поили лошадей) — хоть Блюмкина, хоть Гумилева, хоть Владимира Крестителя — любой немедленно станет немного Перуном-Дзержинским.
В сущности, есть только два исторически приемлемых выхода из ситуации. Первый: Перун остается в своем музеоновом изгнании, и коммунисты в пыльных шлемах будут приходить или приползать к нему — дабы помолчать, пожаловаться, исповедоваться, помолиться в тишине, почистить под ним свои перышки.
Второй: Железный Феликс возвращается на Лубянскую площадь! Но оправданно это было бы только в одном-единственном случае, а именно: вся Лубянка — комплекс зданий страхового общества «Россия» на Лубянской площади, еще в 1917 году реквизированных ОГПУ–НКВД–КГБ–ФСБ, вкупе с подземным ходом и зданием Военной коллегии Верховного суда с его расстрельными подвалами (Никольская, 23) — отдается под музейно-исследовательский центр советских репрессий, с передачей ему соответствующих архивов.
Ведь репрессии — это не просто часть советско-российской истории, это самое ее ядро, самый нерв. Красный террорист №1, возвращенный на Лубянку экспонатом (а не триумфатором), впервые приобрел бы тем самым исторически корректный смысл.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Мне кажется, что уроки истории можно изучать и выучивать не за счет низвержения монументов. Я как профессионал категорически против разрушения. Феликс Дзержинский для России является политическим фактом, к культуре он не имел никакого отношения. Но раз уже сломали — зачем заново ставить? В свое время я обсуждал с Борисом Николаевичем Ельциным возможность установить на этом месте Крест. Он вспомнил Франко и Долину Павших.
Я вам поставил «Маску скорби» в Магадане. Единственный монумент жертвам репрессий из трех мною спроектированных как треугольник страдания. Остальное — сами.
Ваш Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ