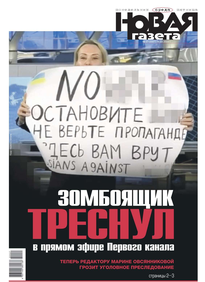Такой вопрос задала известный драматург Ксения Драгунская Дмитрию Быкову за покушение на современную драматургию.
Ксения Драгунская — мой любимый писатель, дочь моего любимого писателя и сестра моего любимого писателя, и родилась со мной в один день (20 декабря. — Ред.), только немного в другой год. И у нее круглая дата. Интервью — это мой способ поздравить трижды любимого, бесконечно мне симпатичного человека, дочь Виктора Юзефовича и сестру Дениса Викторовича.
Она написала «Ощущение бороды», «Яблочного вора», «Заблуждение велосипеда», «Пробку» и «Целоваться запрещено». Я не буду называть все эти сочинения прекрасными или гениальными, как делаю, к сожалению, слишком часто. Я просто назову их очень хорошими, что делаю, к счастью, очень редко. Ну и вообще как-то от них от всех, Драгунских, исходит веселье, им всем присущи мера, изящество, душевная деликатность и умение ставить слова под таким углом, чтобы читателю делалось смешно и хорошо. А к тому же она рыжая. Не бывает столько сразу достоинств у человека, скажете вы. И прочтите это интервью. И кому-то оно не понравится. И значит, у Драгунской все нормально: потому что пока человека ругают, у него есть будущее.
— Вот перечитал я твои детские сочинения. У меня по ним полное ощущение, что детство было счастливое. А как же это возможно при твоем характере, и ты вдобавок рыжая? От романа совсем другие чувства. Так как оно было?
— Эти детские истории, которые в книжке «Целоваться запрещено», старые, начала 90‑х годов, тогда как-то весело было — крошка-сын, кот, пёс… Да, было хорошо, обожаю 90‑е… Ну я тогда вообще была другим человеком, таким вот существом, состоящим из нежности, и веселья, и доверчивости… Последнюю рубашку готова была отдать, дурища… Теперь этого существа больше нет, теперь, прежде чем отдавать предпредпредпоследнюю рубашку, сто раз подумаю. Пожалуй, тогда я просто не понимала, что детство у меня было несчастное, одинокое и грустное. Мне почти все время было скучно и грустно в детстве, представляешь? У меня были какие-то вроде няньки, потому что мама работала в медицинском училище, где после занятий обязательно устраивали собрания и педсоветы до глубокого вечера, и она возвращалась домой поздно… Какие-то занудные старухи ко мне были приставлены. Наверное, моя лютая женофобия из детства, от этих старух и теток. Я все время ждала, что придет кто-нибудь веселый и начнется что-нибудь интересное.
Есть детские воспоминания, которыми я никогда ни с кем не смогу поделиться. Оберегая, так сказать, репутацию семьи. Да мне, пожалуй, и не поверят. Когда говоришь правду, тебе никогда не верят, это железный закон. Вот и молчу.
— Я вот помню советскую школу. Самое счастливое там было — когда все из школы разошлись и начинают заседать всякие кружки. У тебя были какие-то особенно приятные воспоминания на эту тему? И вообще, с чем у тебя тогда связывалось счастье? Я вот очень любил идти из школы поздно. Еще мне нравилось, допустим, гулять вокруг клумбы с осенними цветами.
— Счастье — это когда не надо идти в школу. Дача, костры, велосипед. У меня были чудесные тетушки и дядюшка, Муза и Миша. Вот поездки на дачу с ними, костры, изготовление домашнего кваса — это было счастье.
В школе мне не нравилось никогда, притом что наша знаменитая 30‑я английская школа была вполне гуманным заведением, и хороших, человечных учителей там было полно. Директор школы, как раз персонаж рассказа «Целоваться запрещено», англичанка Лариса Николаевна, да многие.
— Что ты думаешь про отцовские сочинения и почему именно он стал главным писателем для/про советских школьников? Только ли потому, что это смешно?
— «Главным писателем» отец стал прежде всего потому, что не собирался им становиться. Просто писал себе в свое удовольствие. Все попытки стать главным детским писателем принудительно, наметив эту светлую цель и используя усидчивую задницу и трудолюбие, а также грамотно дружа с критиками и членами всяческих жюри, — обречены на провал. Так же на полный провал обречены и попытки объяснить этот феноменальный успех. Кого народ — широкие читательские массы — назначит героем и почему, совершенно непредсказуемо.
— Какие у тебя в детстве были любимые книжки? Не Денискины же рассказы?
— Книжка киевской писательницы Инны Ивицкой «Никогда не угаснет», про пионеров и беспризорников в Киеве 20‑х. Зачитывалась! Мне кажется, я и была единственным читателем этой книжки, потому что больше никто такую не помнит. Вообще, любила книжки про прошлое. «Лёнька Пантелеев», «Рыжик» Свирского, «Цирк приехал!» Аронова, «Повесть о рыжей девочке» Будогоской, «Приключения заморыша» Василенко. Еще была любимая книжка «Воспитание щенка» и справочник Союза писателей за 1964 год — там были смешные фамилии. Читала за обедом.
— Скажи мне чисто по-человечески: цифра 50 вызывает у тебя ужас — или это уже непринципиально?
— Никакая «возрастная» цифра у меня вообще ничего не вызывает. То ли дело — квитанция из ЕИРЦ.
— Российской драматургии нет. Ну нет, и все. Что с ней? Что нужно, чтобы она была?
— А в лоб? Правда, Дима, ты что, «врубил» завлита или худрука ста восьмидесяти лет, который, будучи не в состоянии подыскать себе пьесу «по зубам», кричит, что современной драматургии нет?
А Ворожбит (одно «Зернохранилище» чего стоит), Пулинович, Васьковская, Кусаинова, Печейкин, Шергин? Мухина — ее последняя «Олимпия»! А «старая гвардия» — Коляда, Слаповский? Это я называю тех, кто стабильно пишет и зарабатывает этим на жизнь. Еще много авторов, пишущих редко, но метко. Жанайдаров. Васильев, чей «Антитеррор» всех свалил на «Авторской сцене». Катя Климакова. Серафима Орлова, совсем молодая. А Макейчик, дорожный строитель из Беларуси, с пьесой про нынешние времена под простым названием «Стыд»? Да сейчас расцвет российской драматургии! То, что эти тексты по-прежнему трудно пробивают себе дорогу в репертуарные театры, — изъян театров, а не текстов.
— Крупные театры почти не ставили и сейчас не ставят твоих пьес, особенно на главных сценах. Это так и надо?
— Ставили, ставили, грех жаловаться. И в «академках», и на больших сценах. «Яблочный вор», «Навсегда-навсегда», у Сан Саныча Калягина все три спектакля мои были на основной сцене, «Виктюки» играли «Пиаф» на тысячные залы. А уж детские-то пьесы!.. Но мне действительно ближе зал на 100—200 мест. Кстати, огромные залы уходят в прошлое. Новые театры строят с основными залами на 300, 400 мест, не больше.
— Твои пьесы иногда, кажется мне, все-таки больше подходят для чтения, сцена убивает многое. Она огрубляет, что ли. Или это дилетантское соображение?
— Для меня пьеса — способ рассказать историю. К тому же тексты, они действительно, ну, авторские, арт-хаусные, мало кто может с ними справиться. Есть два режиссера, которые гарантированно сделают хороший спектакль по моему тексту — Оля Субботина и Саша Огарёв, любимейшие мои. Есть еще несколько режиссеров, которым удавались мои пьесы, но вот «систематически» — только эти двое.
— Я перечитывал тут и пересматривал Володина. И мне показалось, что он остался в своем времени, что он наивен, сказочен, иногда слащав, а самые точные реплики у него — ремарки. У тебя нет такого чувства?
— Пожалуй, да. Хотя слащавым я бы его не назвала. Но сейчас это время и эти пьесы очень притягательны. Хорошо, что ставят Володина. Я читала его тоненькую книжку «Попытка покаяния» — сердце кровью облилось. Жаль, что мы тогда малыми детьми были и не успели с ним познакомиться. Мы бы о нем заботились, поддерживали бы, и ему бы легче жилось…
— Вообще театр может быть или очень хорошим, или очень плохим. Как женщина. Почему это так?
— Я крайне слабо разбираюсь в женщинах. У меня вообще нет подруг, в классическом женском смысле. Я не понимаю, о чем с ними разговаривать. Кофточки обсуждать или цикл? С детства не любила женщин и идеализировала мужчин, пока не поняла, что они тоже сплетники, завистники, злопамятны, мстительны, тупы — еще покруче баб. Так вот, про театр. Он как раз чаще всего бывает средненьким, ноль градусов, ни уму ни сердцу, позевываешь, томишься, глядишь на часы. Отвратительный театр как раз по-своему хорош, потому что вызывает хоть какие-то эмоции, пусть даже резко отрицательные. А реально хорошего живого театра не так и много.
— Переход на прозу — это твоя мечта или вынужденная вещь?
— Всегда хотела писать прозу. С отрочества писала рассказики, ну и роман «Остров», написанный мною в 14 лет, «благодарные читатели» по сей день вспоминают. Писать прозу — мечта. Сидеть в деревне у озера, огородничать и писать прозу. От руки. Работать, шуршать листочками, лелеять слова. Земледелие и чистописание, две мечты, Димулечка…
— Вот был Леша Дидуров, мы все так его любили. Что в нем такое было? Ведь много же есть людей, любящих чужие стихи. В чем его корысть, зачем ему это было надо?
— Тогда эти стихи невозможно было напечатать, песенки те и шуточки — негде услышать, вот он и придумал кабаре, где люди за один вечер становились знаменитыми. Шендерович, Коркия, Володя Вишневский, «Несчастный случай», Инна Кабыш, да кто там только ни блистал… Леша очень болел за свое «солнечное подполье». Сейчас (пока) нет необходимости такого кабаре. Все еще впереди.
— Я вот верю, что если человек зависит от чужого мнения, то у него меньше соблазна сделать гадость. А ты как думаешь?
— Напротив. Особенно если человек зависит от мнения группы единомышленников, тусовки, «звездочки», «песочницы», у него гораздо больше шансов ляпнуть глупость и сделать гадость, чтобы не отстать от друзей. Корпоративная этика. Если эта «песочница» каких-либо творческих деятелей, то будь любезен, кричи «гений, гений», даже если твой товарищ по «песочнице» выпустил «унылое гэ». И не вздумай уж особенно сильно похвалить представителя вражеской «песочницы» за очевидную удачу. В любой «песочнице», из каких бы вольнодумцев она ни состояла, очень не любят проявлений инакомыслия.
— Ты говоришь, что стала другим человеком. А в чем — другим? Я вот не могу понять, что во мне изменилось. Кажется, я просто перестал чего-либо хотеть, а вот бояться продолжаю очень многого.
— Раньше я была очень открытая, искренняя, жалела людей и верила им. Однажды режиссер, с которым мы сотрудничали, прочел мою пьесу «Пить, петь, плакать», кажется, позвонил мне из далекого города и сказал: «Мне за вас страшно. Нельзя быть такой открытой, до такой степени человеком «без кожи», вы пропадете, сомнут и спасибо не скажут». Я подумала: «Да ну, дурак какой-то».
К счастью, я изменилась. Благодаря все тем же так горячо жалеемым мною людям и стечению обстоятельств. Я другой человек. Я автор пьес «Истребление» и «Пробка». Отвалите, пожалуйста. Одаренность, искренность и открытость — это три составляющие, необходимые и достаточные, чтобы окончить свою молодую жизнь в канаве, под умильными взглядами коллег и друзей.
— Почему самым страшным русским страхом остается тюрьма, она же главная тема? Можно ли что-то изменить в этом смысле?
— Потому что мы любим волю. Не свободу, а волю. И у нас ее очень много. Россия вольная, как поется в песне. Воля особенно ощущается подальше от больших городов. И тюрьма, неволя, утрата вот этой возможности наслаждаться необъятными просторами, передвигаться, даже в соседнюю деревню, по пьянке, ночью, на полуразвалившейся мотоциклетке, с орущим магнитофоном, дыша полевым ветром, в восторге и упоении, она непереносима, ужасна. Если открыть статистику, то наверняка выяснится, что деревенские хуже переносят тюремное заключение. То есть они могут там выжить физически, наверное, но моральные потери, увечья души для сельского жителя катастрофичны. Тут ничего не изменишь.
— Не пора ли придумать какой-то новый жанр, а то прежние все изработаны и надоели?
— Не хочу тебя расстраивать, но надоело буквально все, не только жанры. Изобретется, придумается.
— Сейчас все читают лекции, а ты не хочешь?
— Я не обладаю абсолютно никакими знаниями или профессиональными секретами. В пьесах опираюсь исключительно на интуицию, а не на премудрости про завязку и развязку. Я и на мастер-классы-то с большим скрипом соглашаюсь, потому что, серьезно, не могу ничему научить… Хотя какие-то лекции могла бы читать. О все возрастающей роли трубочиста в жизни современного мегаполиса. О ходе расследования причин массовых самоубийств ежиков на трассе М‑9 минувшей осенью. Могу провести семинар по выявлению коренных отличий «кулемы» от «мямли» и «безручи», «кердыка» от «шандеца» и так далее.
— Мы понимаем, что выход из нынешней ситуации будет ужасен. А может, прекрасен. Каковы шансы на первое и на второе?
— Будет третье, вот увидишь. Господу, похоже, еще не прискучило над нами смеяться…