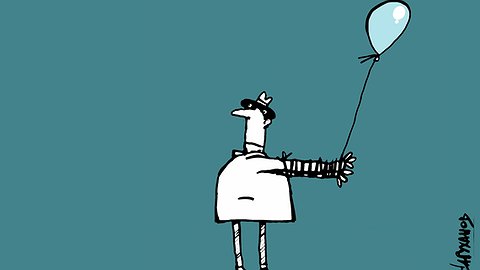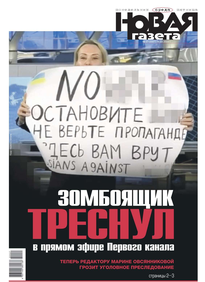Сегодняшние классики — вчерашние модернисты, которых обвиняли в оскорблении общественного вкуса и разрушении традиций. Те, кого не задушили, оставили нам в наследство великое искусство.
Ко Дню космонавтики Александр Твардовский написал восхищенное стихотворение о Гагарине, отдал в «Правду». Поговорить с поэтом пожелал главный редактор Михаил Зимянин:
— Стихи очень искренние, трогающие, не говорю уже о мастерстве, — я преклоняюсь. Но с политической стороны… Недостаточно чувства патриотизма. Не сказано даже, что это партия послала его в космос. Стихи, извините меня, беспартийные…
— Не с позиций обиды, — пояснил Твардовский, — а с позиции достоинства серьезного автора, которому говорят детские вещи. Если вы не усматриваете в этом стихотворении патриотического чувства, то, повторяю, не затрудняйтесь, снимите. Вы меня вовсе не обидели, — подвел черту Твардовский, — вы себя обидели.
Характерна позиция идеологического чиновника. Мастерство, художественная выразительность, поэзия сами по себе не имеют значения, только верность предписанной сверху линии. Написанное не по канонам — пугает.
На протяжении почти целого столетия русское искусство, театр, литература существуют под бдительным идеологическим присмотром. Вычищается и искореняется не только все политически сомнительное, но художественно новое.
Кто эти модернисты?
Один советский философ написал статью под броским названием «Почему я не модернист?». Философ мог бы и не тратить чернила зря. Кто в нашей стране рисковал быть модернистом? «Модернист, авангардист, декадент» звучало хуже трехэтажного мата и рассматривалось не как попытка искусствоведческой классификации, а как политическое обвинение с далеко идущими последствиями.
А кто такие эти модернисты?
Анна Ахматова, Владимир Маяковский, Михаил Врубель, Борис Кустодиев, Николай Рерих, Казимир Малевич, Василий Кандинский, Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Александр Скрябин, Игорь Стравинский, Сергей Эйзенштейн, Всеволод Мейерхольд…
Великолепный список свидетельствует о мощном выбросе творческой энергии, сокрушавшей в начале ХХ века все и всяческие авторитеты, традиции и каноны. Модернисты свободно экспериментировали, не обращая внимания на то, что прежде считалось обязательным с точки зрения формы и содержания. В Москве, вздыбленной и бурлящей, сложилась критическая масса таланта, невиданная концентрация одаренных индивидуальностей. Они побуждали друг друга к творческому эксперименту.
И вот результат. Столетие назад художник Мстислав Фармаковский писал из Парижа:
«Россия делает завоевания за границей. Разумеется, не официальная Россия в мундирах, а та, которая ропщет и хочет жить по-своему: русская литература уже завоевала себе место, русская музыка теперь расчищает себе дорогу, и перед ней робко жмутся разные Делибы, даже Массне и Сен-Санс неприятно поводят плечами. Русская живопись только начинает появляться за границей и уже заставила многих подумать о наступающей своеобразной силе. И как ни бедственно положение России политической, все-таки чувствуешь гордость при слове: я — русский!»
Снять спектакль!
А что потом?
Модернистов сочли подозрительными бунтарями, и для них не нашлось экологической ниши в жестко структурированном иерархическом советском обществе. Художественный поиск мог существовать до тех пор, пока искусство не превратили в государственное дело для обслуживания системы. Пока критерием оценки художественных достоинств не стала идеологическая и социальная полезность.
Осенью 1927 года Камерный театр Александра Таирова поставил пьесу «Заговор равных». Театральная цензура пьесу пропустила — речь шла о французской революции. Но бдительные идеологи забили тревогу: «Пьеса явно рассчитана на то, чтобы у зрителя вызывать аналогии: Директория — Политбюро, Бабеф — Троцкий, период термидора и фруктидора — наше время, очереди у булочных — наши очереди и т.д.
Пьеса пестрит словечками «могильщики революции», «устроившиеся, вскормленные, вспоенные революцией», «народ устал», «при Робеспьере жилось лучше», «революция кончилась» и тому подобные выраженьица, взятые напрокат из платформы и речей оппозиции. Публика уже, еще до премьеры, заинтригована спектаклем: все билеты на объявленные четыре спектакля расхватаны. В настоящей политической обстановке меньше вреда будет от немедленного снятия пьесы с репертуара, чем от оставления пасквиля на сцене».
На следующий день Политбюро приняло постановление о снятии пьесы «Заговор равных».
Вообще-то идейность искусства — штука темная. За безыдейность когда-то громили Станиславского. Субъективный идеалист Станиславский не обладал передовым мировоззрением! И в 1927 году собрание «трудового коллектива», состоявшееся в здании Художественного театра, постановило лишить Станиславского-Алексеева права голоса — как бывшего капиталиста.
В борьбе с модернистами, авангардистами и космополитами появилась сплоченная когорта профессиональных разоблачителей, как правило, бездарных людей, добившихся успеха за счет уничтожения коллег. Место подлинных художников заняли те, кому начальство поручило заниматься искусством.
Они рисовали, писали, ставили, снимали произведения, во-первых, понятные, во-вторых, жизнеутверждающие, в-третьих, соответствующие начальственным указаниям. А модернисты предстали аферистами и фокусниками, обманывавшими простодушного зрителя. И в наши дни популярный портретист считает настоящей живописью не «Черный квадрат» Малевича («это может нарисовать каждый»!), а изготовленный им по фотографии, привезенной адъютантом, портрет героя.
Театр обмельчал, его едва не уморили. После войны на лучших сценах страны — МХАТ и Малый — шла пьеса «Московский характер» стремительно делавшего карьеру Анатолия Софронова. По всей стране ставили пьесы Анатолия Сурова, надежды отечественной драматургии.
Дело не только в том, что это были жалкие поделки. Суров писать не умел. Все пьесы сочиняли за него оказавшиеся в бедственном положении драматурги! Все! Суров сам только расписывался в гонорарной ведомости.
Но лауреат Сталинской премии погубил себя, когда устроил скандал в день выборов. Совершенно пьяный, бросил бюллетень для голосования на пол и долго топтал его ногами. Анатолия Сурова исключили из Союза писателей и из партии. Потом тихо простили — вернули писательскую книжечку и партийный билет…
Беспорядок в хозяйстве
Иногда причина массированной атаки на либерализм в сфере культуры и литературы — провалы во внутренней политике, в экономике, когда ухудшилась ситуация с продовольствием. Власть отвечает обычным образом — закручиванием гаек. При Хрущеве это вылилось в разгром целого направления живописи.
Влиятельные руководители Союза художников жаловались на засилье «формалистов», которые протаскивают «буржуазную идеологию в советское изобразительное искусство, растленно влияя на молодежь». Президент Академии художеств с 1947 года Александр Герасимов прославился не только страстной борьбой против «антипатриотов и космополитов» в художественной критике, но и полным неприятием исканий современных живописцев, видя во всем новом разлагающее влияние Запада. И в Министерстве культуры подозрительно наблюдали за исканиями молодых живописцев.
— В последние годы, — говорила министр Фурцева, — отмечается усиление влияния буржуазной идеологии на некоторую часть советских художников и скульпторов. В результате этого отдельные молодые художники стали работать в духе подражания формалистическим течениям буржуазного изобразительного искусства Запада.
Ее первый заместитель Александр Кузнецов негодовал:
— Нужно активнее выступать. Я сам виноват. Было партийное собрание в московской организации Союза художников незадолго до этой выставки. На нем было много сказанного неправильно.
И вот осенью 1962 года Хрущева привезли на выставку в Манеж. На первом этаже висели работы знаменитых художников двадцатых годов. Хрущев был скор на приговор: «Нашему народу такое не нужно!»
Взвинченный и раздраженный, Никита Сергеевич поднялся на второй этаж, где выставлялись молодые живописцы.
— Что это за безобразие, что за уроды? Где автор? — ругался Хрущев. — Что это за лица? Вы что, рисовать не умеете? Мой внук и то лучше нарисует.
Для тех, кто стоит у власти, искусство само по себе ничего не значит. Их интересует только одно: как искусство использовать в текущих политических целях. Для чиновников, служащих по ведомству культуры, важно другое: в подведомственном им хозяйстве все должно быть спокойно. Иначе высшее начальство выразит неудовольствие: почему допустили непорядок?
«Мы вырубали у Добролюбова его рассказ о встрече с девочкой-проституткой и его боли за судьбы униженных и оскорбленных (как! Добролюбов пользуется услугами падшей женщины), — вспоминал главный редактор издательства «Художественная литература» Александр Пузиков.
— Мы вычеркивали у Овидия стихи о лесбийской любви (не наплодим ли мы лесбиянок?), сокращали письма Льва Толстого (толстовских непротивленческих идей боялись не меньше, чем лозунгов нацистов-фашистов)
и так далее. Было усвоено понятие «чуждой идеологии», и под него подводилось все».
Главная задача — помешать появлению того, что считается недозволенным.
— Когда родилась песня «Хотят ли русские войны», — вспоминал Евгений Евтушенко, — и мы ее записали с Марком Бернесом, политуправление армии выступило против. Сказали, что песня будет деморализовывать советских воинов, а нам нужно воспитывать боеготовность. Бернес начал ее петь, и у него возникли неприятности.
Когда Юрий Любимов поставил в Театре на Таганке рвущий душу спектакль по повести писателя-фронтовика Бориса Васильева «А зори здесь тихие…», постановку кляли как пацифистскую.
За песню вступилась министр культуры Фурцева. Спектакль понравился генеральному секретарю Брежневу. Особые, папские милости! Повезло нам, зрителям и слушателям. А то запретили бы то, чем мы восхищаемся десятилетиями.
Прежде режиссеров, которые движут русский театр вперед, обвиняли в безыдейности. Теперь — в оскорблении чьих-то чувств и разрушении традиций. Меняется только личный состав смотрящих за искусством.
Придавленность церкви прежде выводила религиозный фактор за рамки политической жизни. Теперь, когда религия постепенно заполняет идеологический вакуум, ее роль стремительно возрастает. Профессионально слабые администраторы всячески поощряют претензии церковного аппарата на духовное лидерство, желая опереться на поддержку мощной идеологической силы.
Но Всевышний не навязывал нам своих эстетических пристрастий. Он заботился только о морали и нравственности, наделил человека свободой воли. Иначе и по сей день человечество обитало бы в пещерах.
Станиславский, Вахтангов, Мейерхольд
Значение и роль художника во многом определяется его чуткостью к велениям эпохи. В истории русского искусства начала ХХ века подобной чуткостью в наиболее полной мере были наделены трое. Они принадлежали к разным поколениям, у них разная творческая судьба, по-разному завершилась их жизнь.
Один дожил до глубокой старости и умер, признанный всем миром. Другого тяжкий недуг подкосил почти в самом начале блистательного пути.
Третий… Судьба его трагична. Не только потому, что трагичны были последние годы его жизни, чудовищны обстоятельства, приведшие его к могиле. Ужасно, что до сих пор имя его произносится с опаской, с оглядкой, если не с полным пренебрежением.
Речь идет о Станиславском, Вахтангове и Мейерхольде. Имена Станиславского и Мейерхольда кажутся несопоставимыми, направление их деятельности — полярным. В реальности между Мейерхольдом и Станиславским есть глубочайшая связь, отнюдь не преходящая и случайная, а органическая. Оба были воодушевлены великой любовью к театральному искусству, верой в безмерное значение этого искусства и его неиссякаемые возможности.
И хотя Станиславский и Мейерхольд были в формальном смысле представителями полярных течений в искусстве, полемизировали на протяжении почти четырех десятилетий, они влияли друг на друга, взаимно обогащаясь. Это может показаться невероятным, но поиски Мейерхольда оказали на Станиславского, Немировича-Данченко самое непосредственное и весьма благотворное влияние. Создатели Художественного театра пользовались ценными открытиями его неуемной, несравненной и гениальной творческой фантазии.
Театр без кислорода
Художник, ищущий новое, предстает как своевольный, анархический и неукротимый алхимик, театральный фокусник, который «никаких резонов не понимает», ни с кем не считается и действует как бог на душу положит, подчиняясь лишь произволу своей неуемной фантазии, лишь бы было почуднее.
Нет ничего ошибочнее подобного взгляда на вещи. Художники, которых на протяжении последних ста лет обвиняли в модернизме, авангардизме, формализме и еще бог знает в чем, безмерно талантливые и образованные люди. Они увлеченно стремятся сказать в искусстве новое слово в уверенности, что все старые уже сказаны и утратили свою силу.
Когда-то Маяковского поносили как хулигана, оскорбляющего общественную нравственность! Первые шаги русских футуристов в Москве и Петербурге произвели в тихой заводи благопристойного литературного мира ошеломляющее впечатление. Программные выступления русских футуристов — от самого заглавия «Пощечина Общественному Вкусу» до предложения сбросить с парохода современности Пушкина и Толстого, Бетховена и Моцарта, эпатирующий характер выступлений, пресловутая желтая кофта…
Экспериментируют все, кто искренне любит искусство. А кто не любит и не понимает, кричит — не трогайте классику! Один вполне уравновешенный режиссер, не подверженный пристрастиям к особым «измам», впоследствии художественный руководитель такой твердыни академизма, как Александринка, поставил в 1926 году «Ревизора». И вот что писал тогда журнал «Жизнь искусства»:
«Докатились до клоунады. Хлестаков как будто все время подтанцовывает, чисто балетными прыжками перелетает из конца в конец сцены. Он даже свои реплики скандирует в каком-то танцевальном ритме. Исполнители толкаются, вспрыгивают друг другу на руки, валятся на пол, образуя собой кучу тел…»
Не следует думать, что подобные постановки — исключение, случайность. Поиски, порой неожиданные и смехотворные, даже нелепые, порой творческие и плодотворные, — основа деятельности театра. Эта атмосфера не могла не захватить самые традиционные творческие организмы. Художественный театр, Малый, Александринский проделали сложнейшую эволюцию, обогатив свой творческий арсенал ценнейшими достижениями тех, кого именовали модернистами. Это обогащение происходит порой совершенно непроизвольно, как живой организм усваивает кислород из воздуха.